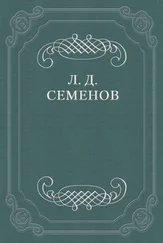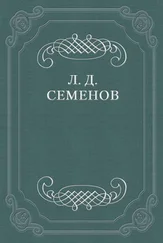К концу зимы тюрьма переполнилась, и за недостатком места стали и в одиночки сажать по двое и даже более заключенных. Одного, огромного ростом, светлого, чистого и немолодого уже крестьянина посадили и со мной. Целый месяц с ним вдвоем с глазу на глаз, с утра до вечера. Сколько разговоров, сколько бесед с ним. Он — брат мой. Какое это чудное, сладостное и гордое чувство, впервые открывшееся мне здесь, в этой камере острога, за всю мою жизнь. Это был настоящий медовый месяц любви моей. Не знаю, как иначе назвать это. Потом весна. Народу все прибывало и прибывало, невозможно уже было держать нас по двое, стали сажать нас в кучки и выпускать чуть ли не на целый день на двор, за недостатком воздуха в камерах….. Уже не нужно было тайных бумажек, виделись и говорили теперь все друг другу лицом к лицу. Наконец, в начале мая, когда собралась первая Дума, меня выпустили, а вскоре после меня выпустили и всех других, — кого на поруки, кого под залог. Я с новыми мыслями и надеждами полетел бодрый и радостный в Петербург. Но еще одно странное и таинственно сладостное чувство уносил я из Оскольского острога — и не мог понять откуда оно и что оно значит, но точно было какое-то предчувствие….. Когда томился еще в остроге и бродил по двору, вдыхая воздух весны, и вглядывался в дрожащую даль весенних полей из решетчатых окон камеры, вдруг такая неудержимая жалость ко всем далеким и близким людям и к себе иногда охватывала сердце и сжимала грудь, что невольно навертывались слезы на глаза, все на миг исчезало кругом, как в тумане, и вот неведомо как слагался на устах неожиданный новый стих, которому я и не мог тогда придумать никакого объяснения и продолжения, но который часто шептал про себя и любил….
Еще я послушник. Из мира
Мне скоро, скоро уходить.
Уже не радует порфира
Весенних снов…..Хочу любить…..
Да, любить и любить всех как-то, неведомо мне еще как, полюбить всех. И еще роднее, еще ближе становились от этого все тихие, простые лица крестьян кругом, побледневшие и похудевшие в остроге и далекие милые друзья и братья и сестры, которые ждут меня в Петербурге и любят, теперь уж я знаю, что любят меня, и сестра Маша больше всех. Так приближалась незаметно настоящая жизнь.
А в Петербурге первой, о ком услышал, была опять сестра Маша, и в то же утро я уже шел с нею рядом по светлым, весенним улицам Петербурга. Она тоже только что вернулась из деревни и была, как и я, преисполнена всем, что видела, слышала там, и весной, которая окружала нас здесь. О смерти своей уже не заикалась в эту встречу со мной. Но какими же словами рассказать мне теперь о ней и о том, как виделись. Не чувствовал ног под собой и земли, когда шел с ней возле, каждым дыханием своим готов был предупредить малейшую мысль ее и малейшее движение и в то же время был свободен, заслужил радость быть с ней и видеть ее, и это знала и чувствовала она, и я видел, что это она знает и видит во мне. Как встретился, так готов был и каждую минуту расстаться с ней, ничего не искал себе от нее, — не себе уж служили мы, а Кому-то Другому, хотя и не знал я Его….. Был, как и она, уже думал я, и был такой гордый, счастливый.
Но очнуться и оглянуться на себя было уже некогда. Кругом опять сходки, митинги, газеты, первая дума, крестьянский союз, трудовая группа….. Попал даже на один тайный революционный съезд в Гельсингфорсе [9] …крестьянский союз, трудовая группа… тайный революционный съезд в Гельсингфорсе. — Депутатом Первой Государственной думы Семенов не был. См.: Первая российская государственная дума. СПб.: Труд, 1906. В этом издании альбомного типа дан список всех депутатов с их портретами; Семенова среди них нет. О Всероссийском крестьянском союзе см. примеч. 8. Трудовая группа — фракция в Думе, представлявшая интересы крестьян. Единственный «тайный революционный съезд» в Гельсингфорсе, который нам удалось найти в исторической литературе, — это IV (III всероссийская) конференция РСДРП, состоявшаяся в 1907 г. В 1906 г. Семенов никак не мог рассказывать крестьянам о тайном Гельсингфорсском съезде, состоявшемся в 1907-м. В 1907 г. Семенов уже отходил от революции, да и революция затихала, но все-таки на партийной конференции присутствовать он мог. Он либо ранее, в мае-июне 1906 г., участвовал в какой-то неизвестной нам партийной встрече в Гельсингфорсе, либо стал жертвой аберрации памяти, либо подошел к материалу как поэт и допустил сознательный анахронизм.
. Мысль была одна: работать как серый рядовой работник в рядах партии за народ. Тлело под этим беспокойное, тайное сомнение, вынесенное из острога, что тут что-то еще не совсем то, что было нужно, иногда даже казалось, что я даже что-то больше знаю, чем другие и чем вожди, но эта мысль казалась гордой, тщеславной, а главное было страшно сомневаться, боялся копаться в себе, чтобы не лишиться того счастья, которое уже было со мной, которого уже достиг. А оно было в сестре Маше, было в том, что я был с ней и считал себя заслуживавшим это. Не сознавался себе в этом, но это было все-таки так. Так страшно враг подменивал и тут истину, которой мы оба искали, ложью, и претворялся перед нами в Ангела светла — в ту мою, казавшуюся и мне и сестре Маше чистой, — любовь к ней, но любовь, в которую вкралась уже гордыня. А время летело, и не было дня, чтобы мы не виделись. Деньги стали общими. В мгновенных встречах на улицах, среди всех дел, среди суеты, успевали мы, как мне казалось, все сказать друг другу, ободрить и проверить себя. Иногда целые ночи напролет бродили взад и вперед по улицам и все говорили друг с другом. Раз, помню, я рассказывал ей что-то о себе, о Старом Осколе, и вдруг увидел у ней на глазах слезы, она сияла радостью, смущенно, скромно, с любовью ко мне.
Читать дальше