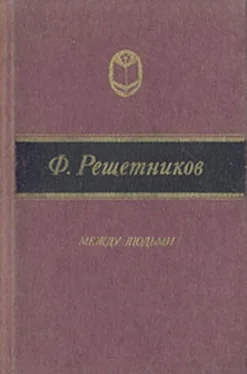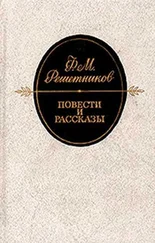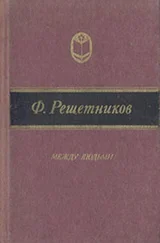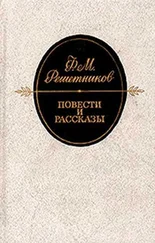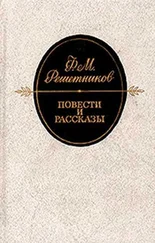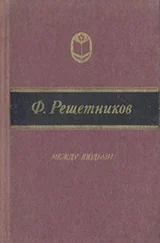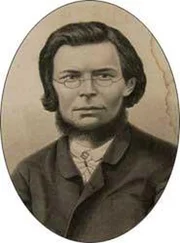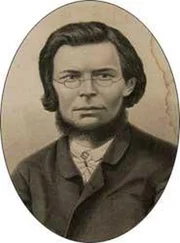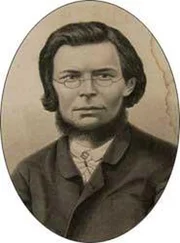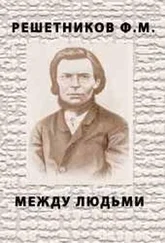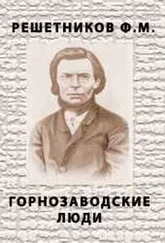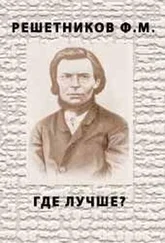— Ты, должно быть, всю местность на протяжении тракта знаешь?
— О, будь ты за болотцом! Как не знать-то, коли с детства хожу? Эти деревни все наперечет знаю, а постоялые дворы чуть ли не все испробовал — все одно, што один.
— А што, если железную дорогу построят?
— Не построят; это только пугают.
— Ну, а если предположить, што построят?
— Ну, тогда мы в конец разоримся. Мы только тем и кормимся, што с обозами ходим. К другим ремеслам мы неспособны, што есть, и с пашнями у нас жены да работники управляются. А будь это дело — ну, и пойдем по миру.
— Есть ли хоть польза-то теперь?
— Какая польза! Кое-как на харчи сходится, — сам подумай: у меня жена, дети, ну, и содержание лошадей што стоит.
Я начинал привыкать к обозной жизни и вполне понял ямщиков. Они, с детства приученные к обозной жизни, так сказать, закалили себя к этому занятию: им не страшен был зной, мороз, не злил дождь, они привыкли к ним и только говорили, что летом ездить лучше, потому что можно идти без зипуна и без шапки, днем можно спать и без сапог, а зимой нужно кутаться в полушубок, да еще сверх полушубка надо надевать азям (род зипуна), нужно часто греться, то есть выпивать на свой счет водки. Виды с гор их теперь уже нисколько не интересуют, потому что они уже примелькались, и в них они не видят для себя никакой пользы. У них даже сложилась совеем иная жизнь, жизнь обозная: в своих деревнях, селах они были только гостями и гостили много-много раза по четыре в году, да и тут им скучно было, тянуло на большую дорогу, где раздолье, хорошо поят, кормят, много приятелей, где только одна забота: благополучно доставить кладь и получить рублей пятнадцать денег. Они не интересовались ни политикой, не тревожили себя пустыми вопросами; вся их мозговая деятельность сосредоточивалась только на обозной жизни, а разговоры об урожаях и других насущных предметах были для них только препровождением времени. Дорогой, когда они шли, они больше молчали, но что они думали, того никто не знает, а вероятно, их мысли были одинаковы у всех. Были ли они поэтами в душе, я сказать не могу, только можно сказать, что они более сообразительны и толковы, чем другие ямщики; у них еще много поговорок под рифму, и эти поговорки, в виде острот, высказываются только навеселе.
О дальнейшем путешествии писать не буду, потому что оно однообразно, только разве упомянуть о том, что мои петербургские сапоги после двухсуточного странствования пришли в такое состояние, что я в них не мог ступить и шагу — стоптались очень и продрались в двух местах на каждом сапоге, и я купил в Кунгуре мужицкие, которые тоже привелось чинить в кузнице, потому что гвозди проходили насквозь, и их присутствие, после десятиверстного странствования, стало весьма неприятно, и я положительно хромал на обе ноги. Кормили меня хорошо, и я, сознаюсь, наедался до того, что едва мог передвигать ноги. И все это удовольствие мне стоило двадцать-пятнадцать копеек, тогда как в передний путь златоустовский смотритель почтовой станции, знакомый мне человек, за два дрянных блюда взял с меня сорок копеек. К обозной жизни я привык совсем на пятые сутки, вероятно потому, что до Перми оставалось немного; да и сам Верещагин более и более становился веселее, попевал веселые песни.
— Слава богу, скоро доедем, — говорил он.
— Домой, поди, съездишь?
— Надо… Уж я ей, будь она за болотцем… — говорил он и делал руками штуки и лицом гримасы.
— Советно ты живешь с хозяйкой?
— И!.. Она у меня баба золотая. Вот баба! — и нужды нет, што третья. Молодая и славная.
— Поди-ко, ведь ей скучно?
— Чево ей скучать-то: знает, што я с обозами хожу и домой приезжаю не с пустыми руками. Работа там есть у нее, чево еще ей надо?
Виды тоже описывать не стану, потому что они до того разнообразны и неуловимы на местах, что их едва ли кто сумеет верно срисовать; да и мне на местах или на интересных пунктах ив голову не приходило набрасывать карандашом хотя бы один клочок интересной для первого впечатления местности, а в памяти у меня так рассеяны эти впечатления, что я нахожу за самое лучшее не фантазировать, или не искажать природу. Не мешает упомянуть о Суксунской горе, которую ямщики недолюбливают за то, что она очень крута. Виды с нее очень хороши, и ее видно за несколько десятков верст, но об ней уже упоминал Максимов в книге «Поездка на Восток». Только, описывая ее, он упустил из виду то, что не весь Урал таков. Кроме Суксуна, близ Кунгура, есть еще две горы, стоящие на тракту друг против друга, — Иренская и Бакинская, так что с одной спускаются, на другую поднимаются, — и между ними село, а около одной — речка с очень холодной водой. Через эту речку перекинут мост, но этот мост почему-то ежегодно починивается, обозы переходят речку бродом. На горах больше пространства степей, и под Кунгуром нас припугнула гроза, о которой говорить тоже не стану: нужно быть на горе, чтобы иметь понятие о грозе.
Читать дальше