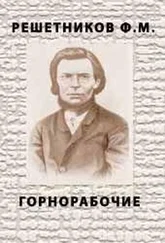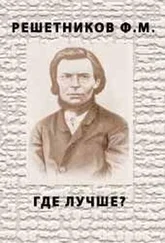Федор Решетников - Яшка
Здесь есть возможность читать онлайн «Федор Решетников - Яшка» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Русская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Яшка
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Яшка: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Яшка»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Яшка — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Яшка», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Под влиянием таких товарищей рос Яшка и мало-помалу всосался в эту жизнь. Как ни тяжело ему было, как ни трудно привыкать к житью и сиденью, не разгибая спины по целым дням, а он привык, дожидаясь то завтрака, то обеда, то ужина и нар, а затем субботы и воскресенья, в которое он мог выйти на свежий воздух, или его кто-нибудь приглашал в кабак, потому что ему больше других приводилось получать от немца побои за то, что он скверно шил. Он умел острить как угодно, петь песни, но к этому его нужно было вызвать чем-нибудь особенным. Он больше молчал; на него как будто никакая острота и насмешка не действовала; зато уж если на него нападет стих острить или петь, то он всех заткнет за пояс.
Так он прожил у немца три года. В это время несколько человек умерло из артели, некоторые отошли от немца, а Яшка остался попрежнему простым мальчишкою, с тем, что немец на него налагал часто, заставляя, например, сшить сюртук в одни сутки. В это время Яшка уже хорошо шил и мог в праздник заработать на себя копеек пятьдесят, но эти деньги уходили все на угощения в трактире или кабаке, во что его постоянно вызывали товарищи, которые все свободное время хотели провести на отличку, чтобы было о чем поговорить в рабочее время.
На четвертый год жизни у немца в швальню пришла его мать. Она была уже старуха. Яшка обрадовался ей, хотел жить вместе с нею, но она сказала, что хочет идти в богадельню, и пошла просить немца, чтобы тот не обижал Яшку. Немец дал старухе денег, расспросил ее: откуда она родом, где родился Яшка, и, обещав из Яшки сделать хорошего человека, велел ей подписать какую-то бумагу. Иван Иваныч позвал Яшку. Яшка, живя у немца, уже успел выучиться настолько грамоте, что разбирал печатное и умел подписывать свою фамилию.
— Подписывай, — сказал немец.
Не подозревая ничего, Яшка расписался эа мать и получил от хозяина полтинник денег на водку.
С этих пор немец стал ласковее с Яшкой. Яшка теперь меньше шил, а больше был рассыльным хозяина, что не нравилось товарищам, но он все-таки в товарищеском кругу был попрежнему щедрым, и что делалось в швальне, до хозяина не доходило, а делалось там иногда многое не во вкусе хозяина. Зато Яшка редко получал какую-нибудь работу со стороны, и если получал доходы, то от давальцев, которым приносил вещи, и от этого у него развилось попрошайничанье и лганье. Хозяин же платья ему не давал.
Прошло еще три года. Яшка стал понимать, что ему даром работать и служить хозяину не приходится, и Яшка, как его называли обыкновенно все и как называл он себя, хотя от матери он и слыхал, как звали его отца, — Яшка стал поговаривать немцу и о плате. Немец или ничего на это не отвечал, или грозил отправить его в полицию. Товарищи стали подстрекать Яшку приступить к хозяину, и если он не будет давать денег, уйти от него. Яшка так и сделал. После сцены с немцем он утащил из швальни сукно, заложил это сукно и начал пьянствовать, надеясь скоро найти другое место. Но его, пьяного же, привели в полицию и отдали под суд.
Яшка не сознался, что он украл сукно. Он говорил, что он от немца никогда за работу не получал ни копейки денег.
— Ты не должен был получать до семнадцатилетнего возраста. Тебя мать отдала Ивану Иванычу на срок, — отвечали ему и показывали засаленную бумагу.
— Меня не мать отдала немцу, а какая-то торговка, — отвечал Яшка.
— Ах ты, свинья! Тебя так учили в полиции показывать. Это не ты подписывал? — и ему показывали на подпись. Тут Яшка понял, что немец сделал с его матерью штуку. Но спросить теперь мать об этом было трудно, потому что она назад тому три года убежала из богадельни, и труп ее нашли на взморье, только не могли определить — чей он, потому что он уже сильно разложился.
Судебная палата, через полтора года по аресте Яшки, приговорила его за воровство к тюремному заключению на два месяца.
По выходе из тюрьмы, с званием крестьянина Якова Савельева, Яшка долго ходил к разным хозяевам-портным, но его никто не принимал на том основании, что его паспорт замарался и он за воровство сидел в тюрьме. Что было делать ему? Денег нет, за квартиру просят денег, хочется есть, никуда в работы не принимают, а воровать он не умеет, сойтись с ворами боится. К счастью, натолкнулся он на биржу и там проработал месяца два, но зато все деньги уходили на еду и водку, от которой он уже не мог отвыкнуть, да и тяжелая работа на бирже как-то невольно тянула его, по праздникам развлечься в кабаке. Наконец он захворал; но скоро поправился. Доктора нашли, что он хотя и слаб немножко, но может жить вне больницы. Яшка просил, чтобы его еще подержали в больнице, но его выписали. Вышедши из больницы, Яшка чувствовал, что он не в силах работать на бирже… Еще не решивши, что ему предпринять, он пошел зря, куда глаза глядят. Он шел долго и, наконец, зашел в такую улицу, где и дома поплоше, и мостовые несколько лет не починивались, и народу по ней почти не видать. Ноги устали, на квартиру идти некуда, и он, задумав завтра идти на какую-нибудь фабрику, решился поспросить дворников, нет ли тут квартиры, где бы ему можно было переночевать. Присел Яшка к одному каменному дому и от нечего делать стал смотреть в подвальное окно. И видит он, что там нет никого: на столе лежит коврига хлеба, какой-то горшок с ложкой… Он встал и бессознательно вошел во двор и подошел к двери, где, по его мнению, находилась комната с ковригой хлеба. «Мне бы только хлеба», — думал он. Но дверь заперли на замок… Яшку пробирает дрожь; ему хочется сорвать замок: он пробует, но сил нет… Замок худой, накладка уже надломлена, а сил нет… Вдруг он увидел около стены ломик, похожий на тупое долото, чем отбивают намерзнувший снег с панели, и, нимало ни о чем не думая, засунул егоза накладку и стал пробовать. Скоро накладка сломалась, замок с нее свалился, и он положил его в карман, а потом вошел в дворницкую (то была дворницкая) и, бросив ломик под печку, подошел к столу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Яшка»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Яшка» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Яшка» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.