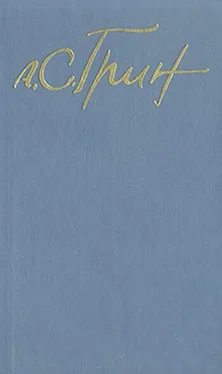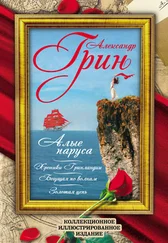Александр Грин
Тифозный пунктир
I
«Если тиф передается насекомыми, — рассуждал я с отвращением к этому слову, — ибо обидно было зависеть от какой-то организованной протоплазмы, хотя сам я чесался уже во всех местах тела самым методическим образом, — если так, — продолжал я, взглядывая на храпевших рядом солдат, — то странно, что до сих пор я не болел». Так думал я, тревожно рассматривая красное лицо человека, лежавшего рядом со мной под шинелью и полушубком. Он потел и крепко дышал. Это продолжалось с ним седьмой день; днем он перемогался, а ночью бредил и вскакивал, но, боясь как огня больницы, предпочитал неопределенность сознанию роковой болезни, и никак нельзя было уговорить его показаться врачу.
Меж тем не было у меня сомнений, что у него тиф, — так страшно горели его глаза; как от печки, дышало от него жаром, и, двигаясь через силу, он говорил неровным, упавшим голосом. Тогда я еще не знал, что тиф разит спустя дней двенадцать после того, как она попробует твоей крови. Поэтому, спя рядом с больным, считал я себя редким счастливцем, так как пока был совершенно здоров.
Мне не спалось. Я курил отвратительную «советскую» махорку, — признак солдатской бедности, — ее курил только тот, у кого не было денег купить лучшего табака, — курил и вспоминал дворника одного дома, в котором жил до солдатчины. То был тридцатилетний гигант, красавец деревенского типа; не прогнувшись, вносил он на пятый этаж четверть сажени дров. После смерти жены осталось у него четверо детей, — две девочки и два мальчика, — от шести до одиннадцати лет; они и отец умерли в три недели. Перед смертью, шатаясь, встал с постели и пошел, в полном бреду, великан этот на улицу. Я задержал его с помощью прохожих; отбиваясь, но уже слабый, он твердил: «Вот луна-лунушка, я пойду на луну, жаловаться; там дохтуров нет. Убьют меня дохтура наши».
II
Мы жили близ вокзала маленького уездного города, в чайной, — шесть человек обозной команды, отряженной караулить обоз; он стоял под навесом среди путей. Днем чайная была полна народом, и мы гнездились за угловым столиком, не раздеваясь, одурелые от газа и холода. Холод стлался внизу, щемя ноги; наверху же стоял банный пар, пропитанный махорочным дымом. Когда чайная закрывалась, мы сдвигали столы и ложились на голый пол, и в зубы, из щелей между бревен, крался мороз. Утром мы вставали, дрожа.
Все мы были из Петербурга и все тосковали о нем. Странный, роковой город, — лишь в те месяцы почувствовал я всю магнетическую силу его притяжения, все мрачное очарование его ран, зияющих пустырями и темными громадами пустынных домов, лишенных огней, среди глыб снега и льда на заколоченных улицах. Истинную и глубокую страсть внушал он. Не было дня, чтобы компанионы мои — два сапожника, повар, сын лавочника, неоконченный реалист и я — не составляли планов, как попасть в Петербург, и не вспоминали всех милых особенностей этого города, ставшего духовной необходимостью. Он снился. Подобно потерянному раю, отделенный пропастью положения, светился и блистал он вдали заветной страной.
Три вещи были у меня, чем-то приближавшие Петербург — картинка, — хоровод молодых девушек, «Вестник Иностранной Литературы», взятый из местной библиотеки, и настоящий китайский чай, добытый путем жертвенной продажи пайка. Будь благословенно, растение страны мандаринов, — твой аромат и магическая сила твоя не раз уводили затерянного в глуши солдата к себе, возвращали его — себе.
III
Как я не спал, то разводящий, проснувшись, только спросил: «Идешь?» Моя очередь была стать на караул. И я вышел в мороз, под свет луны, в тишину снега.
С платформы, под крышей которой меж темных рядов фур, железных кухонь виден был ряд вагонов проходящего эшелона; светящиеся окна теплушек и раскрытые двери их дышали огнем железных печей, бросающих на засыпанный сеном снег рыжие пятна. Там ругались и пели. Закрывая хвост эшелона, темнели белые вагоны санитарного поезда, маня обещаниями, от которых содрогнулся бы человек, находящийся в обстановке нормальной. Взглядывая на них, я думал, что нет выше и недостижимее счастья, как попасть в эти маленькие, уютные и чистые помещения, так нерушимо и прочно ограждающие тебя от трепета и скорбей мучительной, собачьей жизни, нудной, как ровная зубная боль, и безнадежной, как плач. Но я знал, что счастливцы — счастливцы исключительно лишь могут быть там, среди уютного запаха лекарств и бодрого электрического света, озаряющего чистое белье, в то время как расторопный, грубоватый санитар несет в ведерках кашу и суп.
Читать дальше