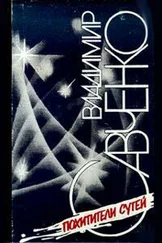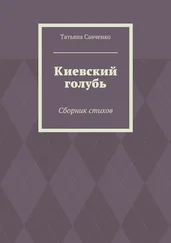Савченко - Лариса Мондрус
Здесь есть возможность читать онлайн «Савченко - Лариса Мондрус» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Русская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Лариса Мондрус
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Лариса Мондрус: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Лариса Мондрус»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Лариса Мондрус — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Лариса Мондрус», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
О какой-то артистической перспективе для дочери Гарри Мацлияк не помышлял. Считал, что девичьи увлечения пройдут сами собой.
Мама советовала поступать в иняз. Лариса склонялась к тому же, прикидывая, что, если она каким-то чудесным способом не попадет сразу на профессиональную сцену, то делать нечего - придется уповать на запасной вариант, идти в институт. Любимой школьной учительницей была для нее преподавательница английского языка Фаина Валентиновна, знавшая свод предмет в совершенстве. Лариса трепетно относилась к ее урокам и потому преуспела в английском на порядок выше, нежели одноклассники.
Пока продолжались раздумья, в ситуацию вмешалась энергичная Губкина. Она позвонила своей приятельнице - молодой, но уже вышедшей в "примы" балерине из оперного театра: "У меня есть безумно талантливая подружка Лариса Мондрус. Ты еще услышишь это имя. Она потрясающе поет. Нельзя ли ее куда-нибудь пристроить? Может, у тебя есть адрес какого-нибудь композитора, который сумел бы ей помочь?.."
Такой человек, к счастью, нашелся. Всех рижских композиторов условно можно было разделить на две категории: "этаблированных" то есть уже получивших определенное признание, и тех, кто еще пытался проникнуть в элитный круг. К последним принадлежал некто Хвойницкий, сочинитель средней руки, но с большими претензиями. Мондрус оказалась для него сущей находкой. Он вручил ей пачку нот с песнями, которых никто не пел, и заставил выучить под рояль: "Я хочу показать их в Рижском эстрадном оркестре". Так Лариса впервые услыхала название ансамбля, с которым - она еще не ведала того начнется ее профессиональная карьера.
Песня Хвойницкого ей откровенно не понравились, но отступать было некуда. Эти спесивые авторские амбиции под лозунгом "пой, что дают, а не то, что хочешь" сопровождали ее долго, может быть, всю творческую жизнь. Стоило ей познакомиться с каким-нибудь композитором - будь то Эдди Рознер в Москве или Ральф Зигель в Германии,- как маэстро сразу предлагал в качестве "обязаловки" образцы своего сочинительства. Но Хвойницкий в тот момент доказал и свою полезность. На очередную встречу с Мондрус он пригласил директора Рижского эстрадного оркестра Яшу Штукмейстера, человека доброго, знающего и с собачьим нюхом на новые таланты. После прослушивания Штукмейстер сказал Ларисе:
- Да, девочка, поешь ты неплохо. Даже хорошо. И если в оркестре за дирижерский пульт станет человек, которого мне хотелось бы там видеть, то оч-чень возможно, что я тебе позвоню. Надо, девочка, немного подождать.
Осталась позади школа, уходило лето. На носу экзамены в институт, вот-вот закончится прием документов. Время поджимает, а Штукмейстер не звонит, будто в воду канул... Может быть: забыл о ней? Хвойницкий тоже как сквозь землю провалился, молчит, ждет наверно. Но ему-то спешить некуда, у него другое ощущение времени. А Ларисе надо что-то решать: либо подавать в иняз, либо верить в удачу и упорно ждать своего часа. Только бы не вышло, как в поговорке "за двумя зайцами погонишься..." - тогда год как минимум будет упущен. А для юности - это целая вечность.
Законы жанра требуют от меня оставить героиню в мучительном раздумье, хотя бы на время, и переключиться на иные персонажи книги. Так я, пожалуй, и поступлю.
Глава 2
"СЕГОДНЯ ОН ИГРАЕТ ДЖАЗ..."2
Эгил - потомок викингов.- Золотые времена падеграса.- Раймонд по прозвищу "Паулюс".- "Ригас эстрадес оркестрис".- Провал на конкурсе.Знакомство с "органами".- Роковой Яша Штукмейстер.
В 40-е годы в Латвии, как и других прибалтийских странах, насильственно присоединенных к СССР, произошли существенные демографические изменения. Большая часть интеллигенции, спасаясь от большевистской кабалы, подалась в "тримду", т. е. на чужбину. Прочих - оставшихся, но недовольных новой властью,- без хлопот рассеяли по лагерям бескрайнего ГУЛАГа. Поляризация населения по идеологическому признаку резко обозначилась с началом немецкой оккупации Прибалтики. Одни (в основном молодежь) приветствовали западных "братьев" и шли служить в Латышский легион, другие (просоветски настроенные элементы) сбегали в спешке в Россию. Больше всех в этой неразберихе пострадали евреи, их-то уж никто не спрашивал, "за большевиков они или за коммунистов". Кто попал сразу под расстрел, а кто для начала в концлагерь.
После войны, несмотря на все беды, Латвия активно восстанавливала свой разрушенный менталитет. Находясь в жесткой сцепке "союза нерушимого республик свободных", советским лимитрофам трудно, практически невозможно было каким-то образом проявлять уже ущемленную национальную гордость, но маленькая Латвия, как оказалось, нисколько не утратила национального самосознания и даже тогда не пыталась демонстрировать Москве какие-то верноподданнические чувства. Она показала себя самодостаточным организмом, способным к выживанию в любых условиях без какой-либо фальшивой адаптации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Лариса Мондрус»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Лариса Мондрус» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Лариса Мондрус» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.