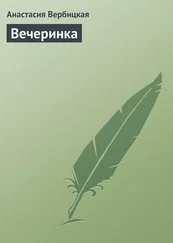Он молча и жадно ел, чувствуя, что побеждён.
Полчаса спустя он выходил уже из парка.
«И детки, должно быть, аховые у неё! Все в матушку… Скверно!.. Скверно!.. Надо ж было этому псу кинуться… Поди-ка теперь поддержи перед этими сорванцами свой престиж!»
От болтовни жизнерадостной дамы у Иванова разболелся висок… «Дойти бы скорей да заснуть»…
Он вышел в поле и оглянулся. За рощицей последние дачи уже терялись из виду. Он остановился. На пыльной дороге не было ни души.
Тогда он снял сапоги и, держа их подмышкой, побрёл тропинкой через поле.
В четыре часа сам Охрименко приехал на трамвае из Москвы и пошёл, совершая свой моцион, пешком на дачу. Это был коротенький толстяк, лет сорока пяти, с апоплексическим затылком, хриплым голосом и хитрыми глазками, зорко глядевшими из-под напухших век. Он был хорошим практиком в жизни, не бездарным дельцом и в молодости слыл за жуира. Но с годами, нажив капиталец, Охрименко обрюзг, опустился, стал мнителен, начал лечиться и впадать в задумчивость, зачитывался Толстым и после винта и хорошего ужина любил пофилософствовать иногда о суете и тщете земных благ. Для Лидии Ивановны он был уже тяжёл.
В этот день Охрименко был особенно задумчив. Репетитор смущал его. Оно, положим, без него не обойдёшься… Не взять — значит, опять этот лоботряс-Васька не перейдёт во второй класс. И тогда его исключат из гимназии… А с другой стороны — большое зло эти репетиторы для семейного человека… Приглашать к себе студента приходится всегда в ту пору, когда на свою-то бабу блажь находит… «la crise» [1] кризис — фр.
, как говорил Октав Фелье. Самый опасный это для женщины возраст, когда даже благоразумные начинают дурить и вешаются на шею мальчишкам… А тут вертится каждый день этакий какой-нибудь «тютька» (по определению Толстого)… Ну, роман и готов…
Охрименко сокрушённо вздыхал, шагая по липовым аллеям.
«Белов хотел рекомендовать. Воображаю!.. Сам фатишка и нахал. Настоящий «калигвард»… А метко их окрестил Боборыкин! Ей-Богу, здорово!.. Вот и пришлёт такого же юбочника и верхолета. А Лидия Ивановна рада… Бабе что? Разве она о репетиторе заботится? Ей было бы самой развлечение. Она вон ругает Наумову, что та шашни завела с Беловым, а сама завидует, небось. Ещё бы! Он и в лес с ней, и на лодке, и по грибы, и по ландыши, и по ягоды, и на круг… Батюшки вы мои! Он и винтёр, он и танцор, и поёт, как цыган, бестия! Сам слышал… И наверно впотьмах целуются», — решил проницательный Охрименко и вдруг облился по?том. Мелькнуло подозрение. А что, если его Лидия Ивановна не ограничится невинным флиртом? Он остановился и достал свой фуляр из кармана просторного чесучового пиджака… «Она, положим, флегматична и всегда была благоразумной… Да разве влезешь в душу женщины? Я человек больной, сырой, вечно лечусь… Она баба в соку»…
Он даже засопел от волнения. Страдая от жары и ревности, приближался он к даче, и будущее для него было чревато бедою.
Кадо давно потерял чутьё от нерационального образа жизни и заворчал, выбегая навстречу хозяину. Но наметавшийся глаз его скоро распознал, что щёгольская пара и лакированные штиблеты могли принадлежать только представителю того сословия, которое он уважал. Обнюхав хозяина, мопс радостно завизжал и стал на задние лапы, ласкаясь. Тогда выяснилось удивительное сходство физиономий и выражения между присяжным поверенным Охрименко и его псом Кадо. Те же зоркие глазки из-под нависших век, те же отвислые щёки, курносый нос и выражение брюзгливой раздражительности около мясистых губ. Но и этого было мало. Они сходились вполне в своих вкусах и симпатиях, и потому их связывала крепкая дружба.
За столом Охрименко кинул подозрительный взгляд на румяное лицо жены, успевшей переодеться.
— Ну что? Был?
— Да… Наняла!
— Ах, папа, какой он урод!
— Кадо на него кинулся, папочка, а он руки вот так… «Кш… кш»… Ха-ха-ха!..
— Молчи, Нинка!.. Я сам расскажу…
— Ты вечно переврёшь! Я расскажу…
Перебивая друг друга и захлёбываясь от смеха, дети передали инцидент с Кадо.
Охрименко съел тарелку борща и попросил другую. Лицо его и глаза стали влажными. Он успокоился и снова находил, что земное наше существование бывает подчас сносным.
— За сколько же?
Охрименко — от толщины ли или от меланхолии — не любил говорить, приберегая дар красноречия для окружного суда. В домашнем же обиходе он ограничивался самым умеренным запасом слов.
Лидия Ивановна, улыбаясь, рассказала сцену торга, и как она прельстила, в конце концов, стаканом чая несговорчивого репетитора.
Читать дальше