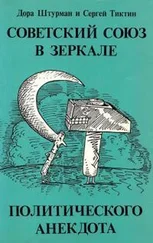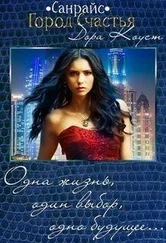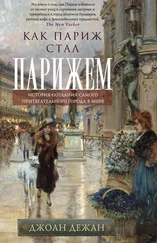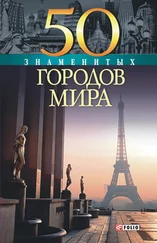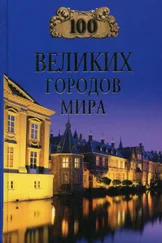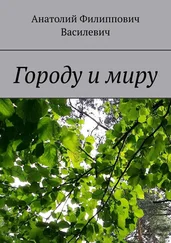Говоря о мире, который "обратился в единый судорожно бьющийся ком" (I, стр. 11), Солженицын не требует от него единой точки зрения на раздирающие его вопросы, но зовет отказаться от "пещерного неприятия компромиссов" (I, стр. 16) - еще один неожиданный для многих призыв в устах человека, которого часто изображают бескомпромиссным и властным глашатаем своего одностороннего и узкого взгляда на вещи ("мономаном"), изоляционистом, не сознающим единства мира. И снова - обвал вопросов, завершаемый обнадеживающим ответом:
"Но кто же и как совместит эти шкалы? Кто создаст человечеству единую систему отсчета - для злодеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимого, как они разграничиваются сегодня? Кто прояснит человечеству, чтo действительно тяжко и невыносимо, а чтo только по близости натирает нам кожу, - и направит гнев к тому, что страшней, а не к тому, что ближе? Кто сумел бы перенести такое понимание через рубеж собственного человеческого опыта? Кто сумел бы косному упрямому человеческому существу внушить чужие дальние горе и радость, понимание масштабов и заблуждений, никогда не пережитых им самим? Бессильны тут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! Это - искусство. Это - литература" (I, стр. 14).
И далее:
"...ободряет меня живое ощущение мировой литературы как единого большого сердца, колотящегося о заботах и бедах нашего мира, хотя по-своему представленных и видимых во всяком его углу.
Я думаю, что мировой литературе под силу в эти тревожные часы человечества помочь ему верно узнать самого себя вопреки тому, что внушается пристрастными людьми и партиями; перенести сгущенный опыт одних краев в другие, так чтобы перестало у нас двоиться и рябить в глазах, совместились бы деления шкал, и одни народы узнали бы верно истинную историю других с тою силой узнавания и болевого ощущения, как будто пережили ее сами, - и тем обережены бы были от запоздалых жестоких ошибок" (I, стр. 20, 21).
Утверждая, что дар художника есть нечто данное ему свыше и потому обязывающее, Солженицын говорит о призванности литературы, о крене русской литературы - десятилетиями, пожалуй, столетиями - в сторону общественного служения: "...И я не стыжусь эту традицию продолжать по мере сил" (I, стр. 16).
Идеологический оппонент (и чем дальше, тем более непримиримый) российских революционеров-демократов в своей историософии и в своей религиозности, Солженицын глубоко родственен им в страстной проповеди служения, возлагаемого ими на литературу. Этого служения, замечает он, "не будем требовать от художника, - но укорить, но попросить, но позвать и поманить дозволено будет нам" (I, стр. 16).
Говоря о том, как "мировое общественное мнение", "поддержка мирового братства писателей" спасли его от расправы, Солженицын заключает:
"Так я понял и ощутил на себе: мировая литература - уже не отвлеченная огибающая, уже не обобщение, созданное литературоведами, но некое общее тело и общий дух, живое сердечное единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества. Еще багровеют государственные границы, накаленные проволокою под током и автоматными очередями, еще иные министерства внутренних дел полагают, что и литература - "внутреннее дело" подведомственных им стран, еще выставляются газетные заголовки: "не их право вмешиваться в наши внутренние дела!", - а между тем внутренних дел вообще не осталось на нашей тесной Земле! И спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего: людям Востока было бы сплошь небезразлично, что думают на Западе; людям Запада - сплошь небезразлично, что совершается на Востоке" (I, стр. 21. Курсив Солженицына).
Так говорил он в начале 70-х годов. И в 1981 году, издавая свой сборник, он не сделал к этой обращенной к "мировому братству писателей" речи о всеземном единстве никаких корректирующих примечаний.
В отношении Солженицына к роли и долгу писателя в современном обществе нет признаков национального изоляционизма, нет и тени желания обелить свою сторону в ее преступлениях, но есть зорко увиденные опасности в обоих занимающих его мирах - "оглушенном" и свободном, восточном и западном. И опять - вопросы:
"Каковы ж в этом жестоком, динамичном, взрывном мире, на черте его десяти гибелей - место и роль писателя? Уж мы вовсе не шлем ракет, не катим даже последней подсобной тележки, мы и вовсе в презреньи у тех, кто уважает одну материальную мощь. Не естественно ли нам тоже отступить, разувериться в неколебимости добра, в недробимости правды и лишь поведывать миру свои горькие сторонние наблюдения, как безнадежно исковеркано человечество, как измельчали люди и как трудно средь них одиноким тонким красивым душам?
Читать дальше