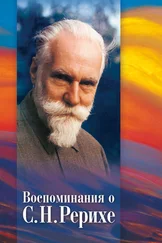И Михеич быстро, привычною рукой хватает веревки. Внизу, точно муравейник, движется мужичья толпа: хоругви бьются в воздухе, поблескивая золотистою парчой… Вот обошли крестным ходом вокруг церкви, и до Михеича доносится радостный клич:
– Христо-о-с воскресе из мерт-вых…
И отдается этот клич волною в старческом сердце… И кажется Михеичу, что ярче вспыхнули в темноте огни восковых свечей, и сильней заволновалась толпа, и забились хоругви, и проснувшийся ветер подхватил волны звуков и широкими взмахами понес их ввысь, сливаясь с громким торжественным звоном…
Никогда еще так не звонил старый Михеич.
Казалось, его переполненное старческое сердце перешло в мертвую медь, и звуки точно пели, трепетали, смеялись и плакали и, сплетаясь чудною вереницей, неслись вверх, к самому звездному небу. И звезды вспыхивали ярче, разгорались, и звуки дрожали и лились и вновь припадали к земле с любовною лаской…
Большой бас громко вскрикивал и кидал властные, могучие тоны, оглашавшие небо и землю: «Христос воскресе!»
И два тенора, вздрагивая от поочередных ударов железных сердец, подпевали ему радостно и звонко: «Христос воскресе!»
А два самые маленькие дисканта, точно торопясь, чтобы не отстать, вплетались между больших и радостно, точно малые ребята, пели вперегонку: «Христос воскресе!»
И казалось, старая колокольня дрожит и колеблется, и ветер, обвевающий лицо звонаря, трепещет могучими крыльями и вторит: «Христос воскресе!»
И старое сердце забыло про жизнь, полную забот и обиды… Забыл старый звонарь, что жизнь для него сомкнулась в угрюмую и тесную вышку, что он в мире один, как старый пень, разбитый злою непогодой… Он слушает, как эти звуки поют и плачут, летят к горнему небу и припадают к бедной земле, и кажется ему, что он окружен сыновьями и внуками, что это их радостные голоса, голоса больших и малых, сливаются в один хор и поют ему про счастие и радость, которых он не видал в своей жизни… И дергает веревки старый звонарь, и слезы бегут по лицу, и сердце усиленно бьется иллюзией счастья…
А внизу люди слушали и говорили друг другу, что никогда еще не звонил так чудно старый Михеич…
Но вдруг большой колокол неуверенно дрогнул и смолк… Смущенные подголоски прозвенели неоконченною трелью и тоже оборвали ее, как будто вслушиваясь в печально гудящую долгую ноту, которая дрожит, и льется, и плачет, постепенно стихая в воздухе…
Старый звонарь изнеможенно опустился на скамейку, и две последние слезы тихо катятся по бледным щекам.
Эй, посылайте на смену! Старый звонарь отзвонил…
Это было в ночь под Светлое Христово воскресенье. Я и мой близкий приятель, доктор Субботин, долго ходили по улицам города, приглядываясь к его праздничному, так необычайному в ночное время, движению и изредка обмениваясь впечатлениями. Я очень любил общество доктора. Несколько лет тому назад у него умерло четверо детей, и в конце концов жена оставила доктора после того, как оба убедились, что они не понимают друг друга со дня женитьбы. Да и вообще во всей своей жизни Субботин был неудачником, от школьной скамьи и до седых волос. Но несчастия не озлобили и не очерствили его сердца, а только придали его манерам, голосу, всему его существу отпечаток ленивой грусти. Он был прекрасным собеседником и очень внимательным слушателем.
Наконец мы взобрались по длинной плитяной лестнице с широкими и низкими ступенями на самый верх Ярославовой горы, господствующей над всем городом, и уселись на одной из скамеек, устроенных для публики вдоль очень высокого и очень крутого обрыва. У наших ног расстилался город. По двойным цепям газовых фонарей мы могли отсюда видеть, как подымались по соседним горам и вились вокруг них улицы. Сияющие колокольни церквей казались необыкновенно легкими и точно прозрачными. В самом низу, прямо перед нами, белела еще не тронувшаяся река с черневшими на ней зловещими проталинами. Около реки, там, где летом приставали барки, уличные огни сбились в громадную запутанную кучу: точно большая процессия с зажженными фонарями внезапно остановилась на одном месте. Светила луна. В прозрачном воздухе, в глубоких, резких тенях от домов и деревьев, в дрожавших переливах колокольного звона чувствовалась весенняя нежность…

Я сидел, растроганный воспоминаниями тех радостных и наивных ощущений, которые в детстве возбуждал в моей душе этот великий праздник. Мной постепенно овладела острая и сладкая грусть, всегда сопровождающая воспоминания детства, – нечто вроде бессильного сожаления о невозможности еще раз испытать эти яркие и свежие впечатления.
Читать дальше