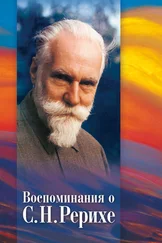Гостинец.
Быстро приподнявшись, Сазонка вскрикнул:
– Господи! Да что же это?
Он совершенно забыл про узелок и испуганными глазами смотрел на него: ему чудилось, что узелок сам, своей волей, пришел сюда и лег рядом, и страшно было до него дотронуться. Сазонка глядел – глядел не отрываясь, – и бурная, клокочущая жалость и неистовый гнев подымались в нем. Он глядел на каемчатый платок – и видел, как на первый день, и на второй, и на третий Сениста ждал его и оборачивался к двери, а он не приходил. Умер одинокий, забытый – как щенок, выброшенный в помойку. Только бы на день раньше – и потухающими глазами он увидел бы гостинец, и возрадовался бы детским своим сердцем, и без боли, без ужасающей тоски одиночества полетела бы его душа к высокому небу.
Сазонка плакал, впиваясь руками в свои пышные волосы и катаясь по земле. Плакал и, подымая руки к небу, жалко оправдывался:
– Господи! Да разве мы не люди?
И прямо рассеченной губой он упал на землю – и затих в порыве немого горя. Лицо его мягко и нежно щекотала молодая трава; густой, успокаивающий запах подымался от сырой земли, и была в ней могучая сила и страстный призыв к жизни. Как вековечная мать, земля принимала в свои объятия грешного сына, теплом, любовью и надеждой поила его страдающее сердце.
А далеко в городе нестройно гудели веселые праздничные колокола.
На вокзале не было обычной суматохи: наступила святая ночь.
Когда прошел курьерский девятичасовой поезд, все поспешили докончить только самые неотложные дела, чтобы поскорее разойтись по квартирам, вымыться, надеть все чистое и в семье, с облегченным сердцем, дождаться праздника, отдохнуть хоть ненадолго от беспорядочной жизни.
Полутемная зала третьего класса, всегда переполненная людьми, гулом нестройного говора, тяжелым теплым воздухом, теперь была пуста и прибрана. В отворенные окна и двери веяло свежестью южной ночи. В углу восковые свечи слабо озаряли аналой и золотые иконы, и среди них грустно глядел темный лик Спасителя. Лампада красного стекла тихо покачивалась перед ним, по золотому окладу двигались полосы сумрака и света…
Проезжим мужикам из голодающей губернии некуда было пойти приготовиться к празднику. Они сидели в темноте, на конце длинной платформы.
Они чувствовали себя где-то страшно далеко от родных мест, среди чужих людей, под чужим небом. Первый раз в жизни им пришлось двинуться на «низы», на дальние заработки. Они всего боялись и даже перед носильщиками неловко и торопливо сдергивали свои растрепанные шапки. Уже второй день томились они скукой, ожидая, пока к ним выйдет тщедушная и горделивая фигурка помощника начальника станции (они уже успели прозвать его «кочетком») и строго объявит, когда и какой товарный поезд потянет их на Харцызскую. Со скуки они весь день проспали.
Надвигались тучи. Изредка обдавал теплый благовонный ветер, запах распускающихся тополей. Не смолкая ни на минуту, несся с ближнего болота злорадный хохот лягушек и, как всякий непрерывный звук, не нарушал тишины. Направо едва-едва светил закат; тускло поблескивая, убегали туда рельсы. Налево уже стояла синяя темнота. Огонек диска висел в воздухе одинокой зеленовато-бледной звездочкой. Оттуда, с неизвестных степных мест, шла ночь…
– Ох, должно, не скоро еще! – шепотом сказал один, полулежавший около вокзальных ведер, и протяжно зевнул.
– Служба-то? – отозвался другой. – Должно, не скоро. Теперь не более семи.
– А то и всех восемь наберется, – добавил третий.
Всем было тяжко. Только один не хотел сознаться в этом.
– Ай соскучился? «А-а-а…» – зевнул он, передразнивая первого говорившего. – Гляди, ребята, заревет еще, пожалуй!
– Будя, Кирюх, буровить-то, – серьезно ответил первый и деловым тоном обратился к соседу: – Парменыч, поди глянь на часы, ты письмённый.
Парменыч отозвался добрым слабым голосом:
– Не уразумею, малый, по тутошним, все сбиваюсь: целых три стрелки.
– Да ай не все равно? – опять заметил Кирилл насмешливо. – Хушь смотри, хушь не смотри – одна честь…
Долго молчали. Тучи надвинулись, густая темнота теплой ночи мягко обнимала все. Старик открыл трубку, помял пальцем красневший в ней огонь и на время так жарко раскурил ее, что смутно осветил свои седые солдатские усы и ворот зипуна. На мгновение выступили из мрака и белая рубаха лежащего на животе Кирилла, и заскорузлые, изорванные полушубки двух других пожилых мужиков. Потом он закрыл трубку, попыхтел и покосился влево, на своего племянника. Тот дремал. Длинные худые ноги его, завернутые в белые суконные портянки, лежали без движения; по очертаниям худощавого тела было видно, что это совсем еще мальчик, истомленный и до времени вытянувшийся на работе.
Читать дальше