Эти новые опыты в повествовательном роде не многое изменяют в образе Гиппиус-романиста. По-прежнему надуманные, чуждые свежести вдохновения, новые рассказы и романы Гиппиус не показывают настоящего знания жизни. Герои Гиппиус опять говорят интересные слова, опять попадают в довольно сложные коллизии, но не живут перед читателем. Это – не более как искусно сработанные марионетки, явно приводимые в движение рукою автора, а не силою своих внутренних психологических переживаний. Впрочем, несмотря на значительные размеры романов Гиппиус, она в своих позднейших повествованиях становится гораздо экономнее в распределении материала. В ее новых рассказах уже нет растянутости первых. Многие картины, нарисованные несколькими резкими чертами, выступают отчетливо. Некоторые характеры очерчены рельефно, иногда не без тонкого юмора. Но надо признать, что основная задача, которую Гиппиус поставила себе в своей трилогии, – изобразить все русское общество нашего времени, разные его слои, включив в изображение и портреты многих известных общественных деятелей, – автору окончательно не удалась.
В своих критических статьях Гиппиус показала себя критиком тонким и вдумчивым, но крайне резким и не всегда беспристрастным.
IV
По языку, по стилю, по манере письма еще резче отличается Гиппиус-прозаик от Гиппиус-поэта.
Проза Гиппиус зачастую написана небрежно; автор довольствуется грамматической правильностью речи, берет первые «попадающие под перо» слова. Автор не останавливается перед такими выражениями, как «Шатрова ела жалость к ней» или «это был самый зловредный мужик». Только местами, всего чаще в описаниях природы, Гиппиус начинает любовно выискивать выражения точные и образные, заботиться об энергии и звучности речи, и тогда оказывается, что у Гиппиус и в прозе есть свой стиль, есть умение говорить сжато, сильно, красиво. Отдельные, преимущественно описательные, отрывки в рассказах Гиппиус являются образцами истинно художественной прозы. К сожалению, они тонут в рядах чисто повествовательных страниц, не имеющих другой задачи, кроме той, чтобы сообщить читателю, что именно случилось с данными лицами. В позднейших повестях Гиппиус заметно стремление к намеренной простоте языка, но оно нередко приводит к неряшливости слога, как стремление к краткости – к излишней лаконичности и отрывочности речи. Критические статьи Гиппиус написаны в особенной манере интимного разговора. Иногда это приводит к большей остроте выражений.
Совершенно не похож на это поэтический язык Гиппиус, язык ее стихов. Его главное достоинства – исключительная сжатость, умение многое сказать очень немногими словами. Гиппиус находит эпитеты вполне естественные и вместе с тем вполне новые, которые каждому слову придают свежесть и неожиданность. Ей удается обновить такие избитые рифмы, как «любовь – кровь» («Крик»), или влить новую жизнь в такое «истасканное» поэтами слово, как «мгла», прибавив к нему эпитет «безрадужная» («Стекло»). Особенно чувствуется это в описаниях природы, в которых Гиппиус достигает иногда чисто тютчевской прозорливости. Таково, например, описание «Весеннего ветра»:
В нем встречных струй борьба и пляска,
И разрезающе-остра
Его неистовая ласка.
Его бездумная игра.
Не менее выразительна картина «Августа»:
Пуста пустыня дождевая…
И, обескрылев в мокрой мгле,
Тяжелый дым ползет, не тая…
. . . . . . . . . .
Дневная ночь, ночные дни…
Но примеры такой же энергии речи можно найти у Гиппиус и в других стихотворениях, чуждых непосредственного описания (например, «К ней»):
И шаг твой дымный я ловлю,
Слежу глухие приближенья…
Я холод риз твоих люблю,
Но трепещу прикосновенья.
Рифмы стихов Гиппиус крайне разнообразны, хотя (как и их размеры) кажутся с первого взгляда обычными. Чтобы показать, какой музыкальности достигают стихи Гиппиус, довольно привести одну строфу:
Вешнего вечера трепет тревожный –
С тонкого тополя веточка нежная.
Вихря порыв горячо-осторожный –
Синей бездонности гладь безбережная…
В замечательном стихотворении «Перебои» Гиппиус начинает стихом с пятисложным окончанием, полно передающим то ощущение, о котором говорится в стихах:
Если сердце вдруг останавливается…
С удивительным мастерством владеет Гиппиус «свободным стихом», ритм которого зависит исключительно от чуткости художника. Образцом такого стиха навсегда остается, например, одно из первых стихотворений Гиппиус: «Окно мое высоко над землею…» Очень тонки также перемены размера в одном из позднейших стихотворений: «Он – ей». Рифмы Гиппиус большею частью просты, но в их простоте есть своя изысканность. Не ослепляя глаз неожиданностью, они всегда естественно занимают свое место и потому никогда не производят впечатления ненужности или бедности. Но не пренебрегает Гиппиус и созвучиями совершенно новыми, если они органически входят в стих, и уже в самые последние годы деятельности она дала несколько опытов новой рифмовки стихов (согласуй начала, а не концы строк).
Читать дальше
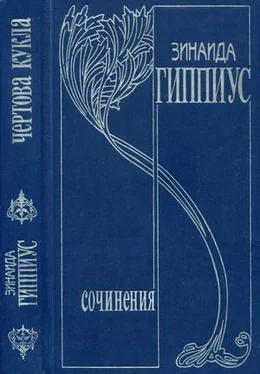
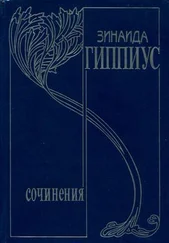
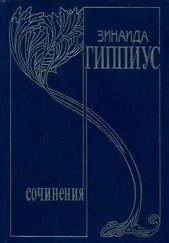
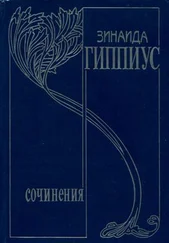

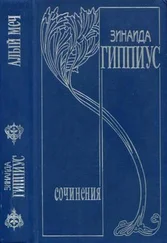
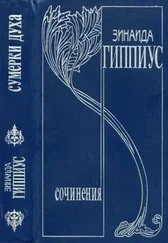
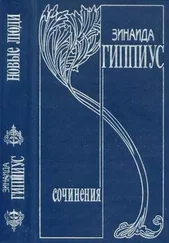
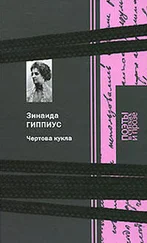
![Чертова Кукла - Зеркало моей души [СИ]](/books/420472/chertova-kukla-zerkalo-moej-dushi-si-thumb.webp)
![Чертова Кукла - Тебе все можно [СИ]](/books/420473/chertova-kukla-tebe-vse-mozhno-si-thumb.webp)
![Чертова Кукла - Песнь ангелов [СИ]](/books/420474/chertova-kukla-pesn-angelov-si-thumb.webp)
![Чертова Кукла - Колесо Сансары [СИ]](/books/420475/chertova-kukla-koleso-sansary-si-thumb.webp)