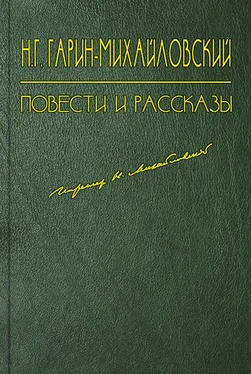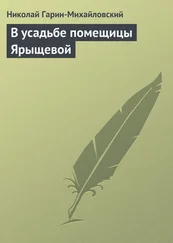Николай Гарин-Михайловский
Художник
И не уступил бы человек ангелам
и перед смертью не склонился,
если бы не была у него слабая воля.
Под сводом лазурного неба, у самого синего моря, жил великий художник.
Люди называли его гением, но так ничтожно было то, что выходило из-под его рук в сравнении с тем, чего хотел он.
Он хотел!
Он хотел в чудном изваянии соединить всю чистоту неба, всю прелесть земли.
И художник искал терпеливо дивный образ своей души. Он искал его в нежном дыхании весны, когда сирень и миндаль осыпали его своим цветом; в тёмных ночах жаркого лета, когда так страстно билось море о берега его сада; в неподвижной осени, когда, вся в позолоте и мечтах о лете, склонялась она к нему и нежно шептала «прости»; зимой, когда дул холодный ветер и дождь стучал в окна, а в камине ярко горел огонь.
В неясных грёзах видел его во сне художник и увидел однажды весь воплощённый свой образ.
Вечные краски заката переливали в небе, солнце золотило и небо и море, и когда солнце коснулось моря, и небо и море вспыхнули и в бездне огней увидел художник там в окне из бирюзы и огня иную даль, увидел чудный, как сон, как мечты, прекрасный образ своей души.
То было одно только мгновение, исключительное мгновение напряжения, когда человек во много раз превосходит себя, свои силы.
Силой чистой влюблённой души художник удержал тот образ и передал его мрамору.
У самого синего моря, против того места, где в небе заседали боги, воплотил великий художник свой образ в девственном прекрасном теле из мрамора.
Изумлённые боги смотрели и говорили:
– Он создал нечто большее даже, чем создали мы.
И боги сказали ему:
– Да, ты великий художник, равный нам, – проси же у нас, чего хочешь.
– Боги! – ответил художник, – дайте ей жизнь. Не для себя прошу, но чтобы могла она совершить своё призвание на земле.
– Да будет! – сказали боги.
И статуя ожила.
А что сделал художник, когда она, обнажённая – вся прелесть земли, вся чистота неба, – сошла к нему?
Он обезумел от вспыхнувшей в его сердце земной любви.
В урагане охвативших его страстей, он, осыпая её огнём своих преступных поцелуев, жадно кричал богам:
– Она моя! Только моя!
* * *
Возмущённые боги тут же произнесли свой жестокий приговор: художник лобзал опять только уродливую глыбу мрамора.
О, как велико было его отчаяние, когда он пришёл в себя!
Как молил он богов о прощении!
– Восстанови её, – сказали боги, – и мы возвратим ей жизнь.
Восстанови её…
Он не мог больше… Он забыл дивный образ своей души… Напрягал все силы, не выпуская резца из рук, он работал, пока боги не сказали ему:
– Всё кончено, смертный, – короткое мгновение твоей жизни прошло и двери вечности уже раскрыты пред тобой.
Так люди и нашли мёртвого художника в его саду с резцом в руках. Он сидел перед своей работой и сам был лучшей из всех сделанных им статуй в выражении неземной тоски, отчаяния и горя.
Таким друзья, передав мрамору его черты, и сохранили образ великого художника.
Он сидит там в своём саду, у самого синего моря, и точно говорит в отчаяньи:
– Ах, я мог бы, мог…
А внизу выбиты слова:
«И не уступил бы человек ангелам и перед смертью не склонился, если бы не была у него слабая воля».