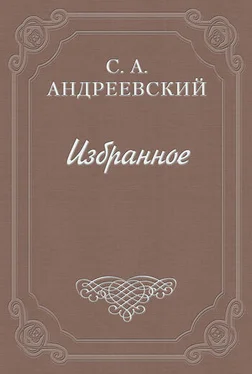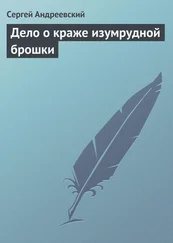На следующий день, когда мы все уже давно встали, ставни в Машиной комнате долго не отворялись. Было уже одиннадцать часов. Я бегал в саду и по двору и наконец направился в комнаты по черному крыльцу. Войдя, я застал суету, и кто-то мне сказал, что «Маша сошла с ума и вообразила себя Богородицей, и сейчас испугала маму, объявив ей, что она не ее дочь и что она – святая». Я видел на всех лицах тревогу, но ничего не понимал и не верил разговорам. Со страхом смотрел я на притворенную дверь в темную зеленую комнату Маши. Я ставил себя на ее место и не мог вообразить себе ее сумасшествия, и тем более устрашился того, о чем говорили. Я не смел переступить порога ее спальни, убежденный, что совершается нечто слишком для меня непостижимое, от чего у меня мутилось в голове и подкашивались ноги. Мне думалось, что в этой темной комнате с притворенною дверью непременно присутствует сверхъестественная сила, которая овладела Машей и не позволяет ей понимать все то, что нам понятно. Я боялся поддаться влиянию этой самой силы, потому что сердцем своим был близок к Маше и не допускал, чтобы между нами образовалась такая бездна. Мне все казалось, что Машу можно убедить в неестественности ее мыслей, а если нельзя, то это уже нечто волшебное и ужасное. Один из братьев подвел меня к двери и сказал: «Послушай». Оттуда слышался торопливый голос Маши: доходили слова, но понять их было невозможно. Такого сочетания бессмысленных слов я еще никогда не слыхал. «Это – вмешательство свыше, – думалось мне, – это – Бог, это – сходит с небес, из непонятного нам мира». Мне представлялось чудо во всем его устрашающем величии. Машино «сумасшествие», как у нас его называли, началось с ненависти к матери: она не могла ее видеть и отгоняла от себя. Матушка была в отчаянии и не смела входить в комнату больной. Я старался как-нибудь объяснить себе эту ненависть; уж не мстила ли кроткая, добрая Маша матери за то, что та добивалась от нее совершенства, смутила ее голову недостижимыми идеалами, затуманила ее воображение религиозностью и романтизмом? Мне хотелось найти какое-нибудь разумное объяснение этому перевороту. Я говорил себе, что Маша могла на время вообразить себя Богородицей, насмотревшись в своей болезни на постоянно мелькавшие перед ней святые картины с изображением Божией Матери во всех видах. Я думал, что это пройдет. Из долетавших до меня звуков Машиной речи я различал один, резко выделявшийся возглас: «Тряси-тряси, Вера-a». Она очень часто возвращалась к этому нелепому восклицанию с протяжным окончанием, точно оно ей особенно нравилось или как-то удачно выражало ее мысль. И так как «Вера» было имя матери, то я старался подыскать какой-нибудь смысл и для этой непостижимой прихоти ее языка. Мне слышался в этом Машин упрек матери за предъявленные к ней невыполнимые требования совершенства. Однако этот возглас возвращался так случайно, так часто и делался таким бессмысленным голосом, что мои уши и мое сердце не переставали страдать.
Доктор определил «горячку». Это был наш домашний доктор, инспектор врачебной управы, умный и опытный малоросс, в чистеньком вицмундире, с тонкими чертами лица, побитого оспой, с бритыми губами, стриженной головой и бакенбардами с проседью. Сутуловатый, с мягким голосом, спокойными манерами и юмористической улыбкой (когда он был в духе), доктор этот знал каждого из нас насквозь и казался мне таинственно глубоким человеком. Он всегда ездил в узких дрожках с поднятым верхом, на белой лошади, и носил шинель пушкинского покроя, с пелериной и с бархатным воротником. С первого же дня Машиной болезни докторские дрожки с белою лошадью по два, по три раза в день стояли в нашем дворе со стороны парадного подъезда. Положение больной, видимо, становилось опасным.
Мне особенно памятны первые трое суток.
Маша говорила не умолкая. Вечером первого дня, точно так же, как и утром, из комнатки доносилась все та же торопливая, неукротимая речь. Повторялся иногда и возглас: «Тряси-тряси, Вера-а-а», хотя более равнодушным и утомленным голосом. Этот день будто и меня самого свел с ума. Я не мог обедать, да и все другие пообедали не вовремя, неохотно и не в столовой, а в другой комнате, подальше от Маши. В обычное время я пробовал лечь в кровать, но мне не хотелось раздеваться. Я заснул на какой-нибудь час и очнулся очень быстро, и тотчас встал. Везде было темно, все спали. Я добрался ощупью до лестницы, спустился вниз и увидел слабый свет свечи в столовой, смежной с Машиной комнатой. Направляясь к этому свету и не слыша никаких звуков, я надеялся, что наконец теперь и Маша замолкла и что, заснув, она завтра же оправится. Все было тихо. Я уже вошел в столовую, и ничего не было слышно; я был уже готов пойти обратно, раздеться и заснуть, как в этой тишине до меня явственно дошли все те же, не смолкающие ни на секунду, Машины разговоры. Они были тем ужаснее, что уже никто более их не слушал. Через мгновение раздалось громкое восклицание: «Тряси-тряси, Вера-а-а». Минуту спустя из этого одинокого, невероятно утомительного шепота вырвалась и еще одна громкая фраза, из трех или четырех любимых и одинаково бессмысленных, которые Маша выкрикивала особенно явственно. Я стоял перед нагоревшею свечою, опустив голову, с холодеющим сердцем. Я не смел взойти к больной, не знал, чем ей помочь, и мечтал, как о невозможном счастье, чтобы эти мучительные звуки когда-нибудь наконец могли замолкнуть. Возвратившись наверх, я опять лег, не раздеваясь, и весь холодел, и с напряжением думал о Маше, и по временам дремал беспокойной дремотой.
Читать дальше