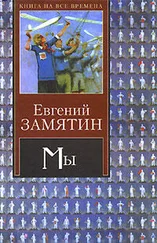– Эх, родименькие! – зарился на монашек Сикидин, зубы разгорались, росли.
Сторонних богомольцев в церкви – всего никого, и только странников пяток да манаенских трое: Сикидин, Зиновей Лукич да старик Онисим.
Зато на чудотворной иконе – Сподручнице грешных – народу несчетно: и все к ней – головы и руки, а она глядит на всех ласково, глаза синие, ясные.
– Сподручница… владычица, выручи, помоги… – головку на бочок, уж такой пригорбый, уж такой хворый перед владычицей стоял Зиновей Лукич…
Душатка-просвирница вынесла игуменье именинную просвиру трехфунтовую. Освободилась – и за дверь. И оглядываясь – по каменной плитяной тропинке побежала на кладбище влево. Погодя немного вышел и Сикидин из церкви.
Липы растомились, дышат часто. К духу медвяному пчелы так и льнут. На теплой могильной плите – Сикидин с Душаткой. И уж Душатка расслабла вся, руки распустились, и только одно на свете: сикидинская лапа на правой фуди.
– Так ты гляди, Душатка, чтоб без обману. Как после трапезы заснут, ты нас коридором, через корпус, в покой к ней, а сама – ноги за пояс, и марш. А ночью тебя на поляне – буду ждать, бесповоротно.
– Ванюшка, только Христа ради, чтоб беспокойства какого ей не было!
– Дура! Мы – деликатно, согласно постановлению.
Только одно на свете: сикидинская жестокая лапа на правой груди. После обедни в покоях матери Нафанаилы шумели гости: причт из Манаенок, из Крутого, из Яблонова. Уточкой-водоплавкой переваливалась, хлопотала хозяйка, сухонькая, черненькая. А глаза – как отрыгнувшая весенняя ветка: ясные, синие…
Дьякон крутовский – дочь Ноночку замуж выдал: уж так радовалась Нафанаила, так расспрашивала обо всем:
– Ну а платье-то какое венчальное?
– А платье – кисейное, белое. Вот тут вот – вставка, а тут – бары кругом.
– Ну слава Богу, слава Богу! А музыка-то была?
– Ну, музыка у нас какая же! Так, два жида в три ряда.
– Ну слава Богу, слава Богу! Блинчиков-то еще, а?
Радостно, а все-таки уходилась Нафанаила с гостями.
И как ушли – Катерину-казначею отпустила, штору задернула и на диван прилегла. Штора желтая, позолочено все в комнате, веселое: посуда в горке позолочена, просвира трехфунтовая, и по окнам – в вазах медвяные липовые ветки и купавки и лютики.
А только глаза завела – все девять дочерей тут тоже – на именины, веселые такие.
– А музыка-то у вас есть там, милые вы мои?
– Ну как же, обязательно… – и пошли притопывать, и все громче, сапоги-то у них там носят какие здоровые, вот не думала!
Раскрыла Нафанаила глаза: у притолки мужиков трое топчутся.
– И как же это я крепко так? Поди, в дверь Катерина стучала, а я – ничегошеньки…
Вскочила, поправилась – и к мужикам вперевалочку:
– Как будто манаенские, а?
– Манаенские, конечно. И прибыли к вам согласно постановлению.
– Родимые мои, вот уж нынче для меня радости сколько! Уж вот спасибо-то! И вы попомнили – почтили меня, старуху. А у меня и пирог именинный остался, и все. Ну, сейчас, сейчас…
И уточкой-водоплавкой в соседнюю комнату, зазвенела тарелками.
У старика Онисима – ротик оником:
– Ска-жжи ты на милость! Вот так попали! Слыхать было явственно: нож проходил мягкое, легонько тукал в тарелку – резал пирог ломтями.
Зубы у Сиккдина посверкивали, глаза упрятал в картуз – картуз в руках:
– Что ж, мы с утра не емши. Но только уж, чтобы потом – никаких привилегий, бесповоротно.
Игуменья тащила поднос: пирог, графин с висантом, карпятины жареной кус.
– Ну, милые вы мои, уж так вы меня… Ангела моего вспомнили, а? Ну, вот тут, вот тут. А ты бы, старичок, в кресло. Ну-ка, на здоровье? И я с вами.
Со сторожем окаянным всю ночь провозились манаенские. А висант к именинам – хороший, крепкий: по костям пошло, в темя вдарило. Все свирепей рвал пирог волчьими зубами Сикидин. Все пуще голова на бочок у Зиновея Лукича.
Еще стаканчик – и заколотил себя в грудь Зиновей Лукич.
– Матушка, грешник я, вот передо всеми говорю… Как мясоедом я третий раз женился на молоденькой… Опять же – телка у меня с ящуром… Но как она, Матерь Божия, значит, Сподручница грешных – обязана она выручить нас из положения. Хотя-хоть и грешник я, и телка… но как мы, значит, для обчества, а не для себя… Верно я говорю, Сикидин? А?
Стукнули в дверь: мать-казначея. Шаги крепкие, мужичьи. На манаенских повела бровями:
«Пронюхали пирог мужичишки, влезли. Хоть бы какой Час ей покою дали!»
– Катеринушка, уж ты бы еще нам висанту – уж день такой. Сделай милость, вот в горке ключи от погреба.
Читать дальше