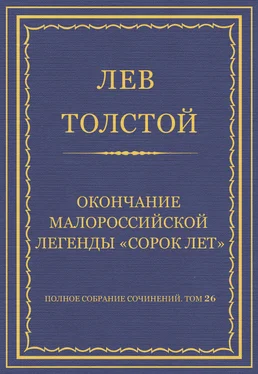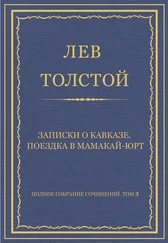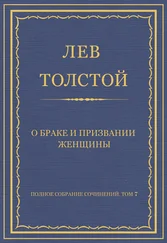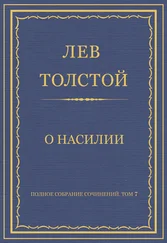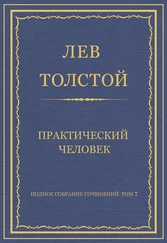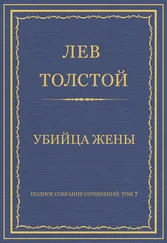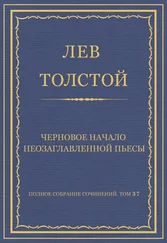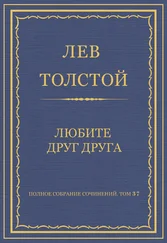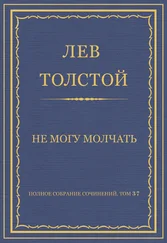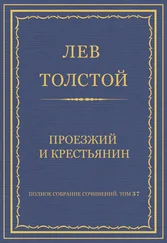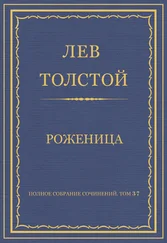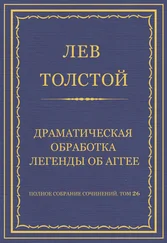и сѣлъ у могилы. И только что сѣлъ, вспомнилъ онъ все, что было: вспомнилъ онъ лицо купца, когда онъ вскрикнулъ и когда треснула его голова, и онъ упалъ навзничь. Вспомнилъ онъ и работника, какъ онъ лежалъ на животѣ съ откинутой рукой. Вспомнилъ онъ про то, что были у нихъ матери, жены, дѣти, и такой страхъ на него нашелъ, что хотѣлъ онъ вскочить и бѣжать, да потомъ подумалъ: «куда убѣгу отъ Бога?» И остался на мѣстѣ.
Сидѣлъ онъ долго, половину ночи, все слушалъ и смотрѣлъ и ничего не слыхалъ, кромѣ шелеста вѣтра въ макушкахъ, да ничего не видалъ, кромѣ темноты и креста на новой могилѣ. Сидѣлъ онъ и думалъ и хотѣлъ забыть то, что сдѣлалъ, и повѣрить тому, что говорилъ Придыбалка, и не могъ. Сидѣлъ онъ и ждалъ кары Божьей. Въ серединѣ ночи прислонился онъ на руку и сталъ задремывать; вдругъ точно голосъ чей то разбудилъ его. Онъ очнулся, сталъ прислушиваться, и точно два голоса заговорили изъ земли:
– Господи, Господи! побій того злочинця, що насъ побівъ, – сказалъ одинъ голосъ.
И другой голосъ сказалъ:
– Господи, Господи! побій того злочинця, що насъ побівъ.
«Неужели правда», подумалъ Трофимъ. И не успѣлъ подумать, какъ откуда то издалека услыхалъ онъ, какъ громъ, дальній голосъ:
– Побью, не теперь, а у сорокъ літъ.
Испугался Трофимъ и
Работа Толстого и его сотрудников над переделкой протекала, видимо, в январе – апреле 1886 г. Вероятно, в апреле или в мае этого же года Толстой написал и свое окончание костомаровской легенды, идя навстречу просьбе Черткова, выраженной им в письме к М. Л. Толстой от 8 апреля, и в согласии с его представлением о том, как должен был жить последние годы своей жизни Трофим Семенович. Тогда как в легенде Костомарова после несбывшегося предсказания он живет спокойно, ничего уже не боясь, в толстовском окончании Трофим Семенович после этого становится подозрительным, недоверчивым к людям и непрерывно мучается от этого, и в этом как бы заключается его кара за преступление.
Автограф окончания легенды «Сорок лет», написанный Толстым почти без поправок и помарок, хранится в Государственном Толстовском музее (№ 75). Он занимает 5 листов в 4°, из которых 4 исписаны с обеих сторон и 1 – с одной стороны. Начало: «Въ эту же первую ночъ». Конец: «какъ онъ потерялъ Бога». Текст его в основном совпадает с текстом, напечатанным в журнале «Образование» (см. ниже), разнясь от него лишь в нескольких второстепенных деталях.
Отказ Костомаровой разрешить переиздание легенды, а также общие цензурные условия того времени помешали в ту пору появлению в свет переработки книжки Костомарова. Однако Толстой и тогда не оставлял мысли издать для народа «Сорок лет». В письме к Черткову, от 29 [?] марта 1888 г. он рекомендовал ему издать в Лейпциге на четырех языках– русском, французском, немецком и английском – всё, что имеется у него из непропускаемого цензурой, в том числе и легенду Костомарова (ГТМ—AЧ). Но этот проект осуществлен не был.
Через десять лет после этого, 2 февраля 1898 г., В. Е. Якушин обратился к Толстому с просьбой дать что-либо из своих произведений в подготовляемый Пензенской общественной библиотекой сборник памяти Белинского, в связи с исполнившейся пятидесятилетней годовщиной со дня смерти критика. Доход от продажи этого сборника предназначался на учреждение какого-либо просветительного учреждения имени Белинского. «Ради имени, которому посвящен сборник, ради цели, с какой он издается, – писал Якушкин, – Вы не откажете, как мы надеемся, в изложенной просьбе» (АТБ).
Толстой исполнил просьбу и дал в сборник свое окончание легенды Костомарова, напечатанное под заглавием: «Окончание малороссийской легенды «Сорок лет», изданной Костомаровым в 1881 г.» («Памяти В. Г. Белинского. Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов». Издание Пензенской общественной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова М. 1899, стр. 559—563. Цензурное разрешение сборника 5 марта 1899 г.). Тексту Толстого, заключающему в себе здесь ряд стилистических вариантов сравнительно с текстом автографа, предшествует очень краткое изложение легенды Костомарова, неизвестно кем написанное.
В связи с напечатанием окончания легенды А. Е. Грузинский, один из редакторов сборника, писал Толстому 30 марта 1899 г.: «Ваше «Окончание легенды» в сборнике Белинского едва-едва могло быть помещено, так как оказалось, что его необходимым сочли послать на цензуру в главное управление по делам печати, где задержали очень долго, не изменив, впрочем, ничего» (АТБ).
Читать дальше