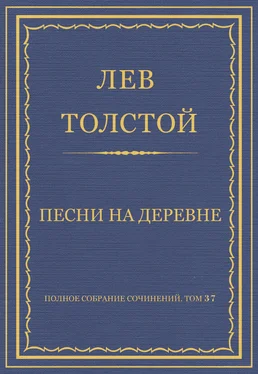Пока мы говорили, ребята вышли и из 4-го двора, и опять гармошка, потом голошение, взвизги, хохот и опять гармоника. Сначала постояли, потом тронулись. Нельзя было не дивиться на энергию, бодрость певца и игрока, как он верно отбивал темп, как притопывал, останавливаясь, как замолкал и потом в самый раз подхватывал голосом, <���развеселыми глазами поглядывая кругом>. У него, очевидно, настоящее и большое музыкальное дарование. Мы встретились с ним глазами, и эта веселость особенно не только жалка, но страшна была. И когда он взглядывал на меня – так, по крайней мере, мне показалось, – он видел, что я понимаю его веселость, скрывающую хуже чем горе – отчаяние, он отворачивался и еще бойчее заливался. В 5-й и последний двор я вошел вслед за ребятами. Парни, и одни они уже, сидели за убранным скатертью столом. На столе были хлеб и вино. Хозяин, тот самый крестьянин, у которого сын был женатый, наливал и подносил. Ребята почти ничего не пили, только пригубливали и отдавали. Хозяйка резала ковригу и подавала закусывать. Раза два так обошли всех стаканчиками. В то время, как я смотрел на парней, с печки, подле самого того места, где я сидел, слезла женщина, скорее «дама», а не женщина, в модном платье, что-то было шелковое, какие-то прошивки, больше же всего бросались в глаза большие золотые серьги-кольца в ушах. Лицо женщины было не веселое и не грустное, но как будто обиженное. Она сошла на пол своими, с каблучками, новыми ботинками и вышла наружу. Я никак не мог понять, кто могла быть эта женщина. Всё ее одеяние, в особенности серьги и обиженное лицо было так чуждо всему окружающему, как было бы чуждо появление– мужика в лаптях в светской гостиной. Это была та жена призываемого, сноха, про которую свекор говорил мне, что она не работница, отрезанный ломоть. Парни отказались от угощения, встали, помолились, поблагодарили хозяев и вышли на улицу. Опять вытье, голосование, опять гармоника и опять вытье, особенно мучительное, так что бабы вдали покачивали головами, а вблизи стоявшие подхватили воющую и закатившуюся бабу под локти и отвели в сторону.
– Кто это?
– Да Александрина мать.
Это была мать песенника. Не доходя 5-го двора, шествие остановилось, подъехали телеги, чтоб везти призывных до волости. У телег особенно бойко разошелся Александра. Он, согнув голову на бок, и установившись на одной ноге, и вывернув другую, и постукивая ею, выводил такие залихватские выкрики под гармонию, что ребята, окружавшие толпу, не спуская глаз, смотрели на певца, любуясь им. На меня же он не взглянул ни разу, несмотря на то, что я смотрел только на него.
– И ловок же, бестия! – сказал кто-то из мужиков.
– Горе плачет, горе песенки поет.
Со мной поровнялся в это время маленький, худенький старичок, в лаптях и прорванном на боку зипунишке. Он поздоровался со мной. Я, не узнавая его, спросил: кто он.
Он не сказал, как бы сказал всякий старый знакомый на мой вопрос, не сказал: али не узнаешь, а сказал:
– Я-то? – Прокофий я.
И я тотчас же вспомнил работящего, хорошего рыжего мужика, который, как часто бывает, как бы на подбор подпадал под одно несчастье после другого: то лошадей двух увели, то сгорел, то жена померла. Я не узнал его особенно потому, что, давно не видав его, помнил Прокофья красно-рыжим и среднего роста человеком; теперь же он был не рыжий, а с седой коротенькой бородкой и сделался маленьким, сгорбленным человечком.
– А, Прокофий. Как же, – сказал я и опять стал смотреть на парней.
К [6]возчику подъехавшей телеги подошел один из парней, тот высокий, сильный человек с строгим, серьезным лицом, которого я заметил с самого начала. Я не знал, кто он, из какого двора.
– А этот чей? – спросил я у остановившегося подле меня Прокофия.
– Это-то? – сказал Прокофий, и голос его задрожал. – Мой это, – проговорил Прокофий <���и> зарыдал, как старая баба.
<���И мне стало совестно смотреть на это ужасное зрелище. Если можешь что-нибудь сделать для того, чтобы не было этого ужаса, то делай, а не можешь, то не смотри на это, а иди домой.>
Сын его взглянул на отца, и умное лицо его стало еще серьезнее, и тотчас же отвернулся. И мне стало мучительно тяжело и стыдно, и я повернулся и ушел домой.
5 ноября.
Комментарии В. С. Спиридонова
ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ
Очерк «Песни на деревне» был написан Толстым под впечатлением проводов 22 октября 1909 г. яснополянских новобранцев (см. Дневник, т. 57, стр. 157).
Читать дальше