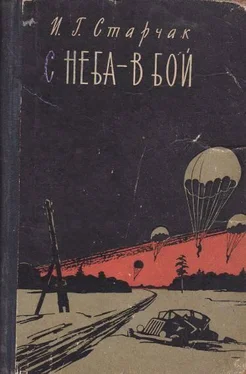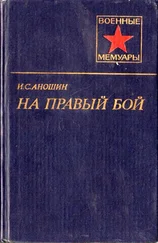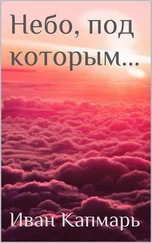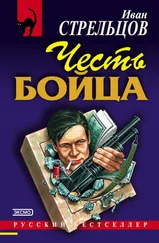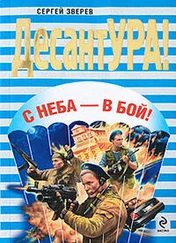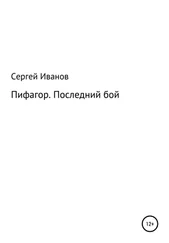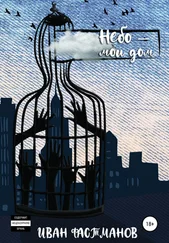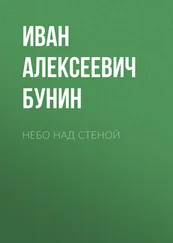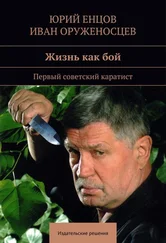Наши ребята пустили слух, что майор Старчак возвращается из госпиталя и снова заберет к себе своих подрывников. Об этом я слышала от многих. Значит, в вас верят».
Мне было приятно читать эти строки. Они поддерживали меня в споре с теми, кто говорил:
— Иван Георгиевич, не тешь себя иллюзией. Штурманом еще, может быть, сумеешь. Ну даже летчиком. А вот парашютистом…
Я читал в их глазах: «Брось хорохориться. Смирись…»
А я не хотел. Боевые друзья тоже ждали меня. Как самое дорогое храню я письмо Юрия Альбокримова, Василия Мальшина, Анатолия Авдеенкова:
«Мы сейчас находимся на отдыхе, но в любую минуту готовы выполнить боевую задачу, какой бы трудной она ни была и каких бы жертв ни потребовала… Товарищ майор, сообщаем вам по секрету, за точность данных несем полную ответственность: нам стало доподлинно известно, что после выздоровления вы вернетесь на прежнюю должность…
Мы надеемся, что скоро снова вместе будем громить врага. Боевой красноармейский привет!»
Душа моя рвалась к этим замечательным ребятам.
Путешествие в молодость
Да, мне хотелось в небо. Лежа на больничной койке и глядя в стену, я мысленно возвращался к дорогим моему сердцу дням. Вспоминались то летная школа, то какой-нибудь экспериментальный прыжок.
Вот память воскресила образ инструктора навигационной службы Климова, человека уже немолодого, хорошо знающего свое дело. За его плечами немалый боевой опыт. Он участвовал в гражданской войне летчиком-наблюдателем.
Климов, как и я, пришел в авиацию из кавалерии. Предмет, который он нам преподавал, не отличался сложностью. В кабине штурмана имелось всего три прибора. Их мы освоили быстро.
Наконец нас подняли в воздух. Полет прошел нормально. Чувствовал я себя хорошо.
После приземления пилот сказал:
— Теперь для полноты счастья остается прыгнуть с парашютом. Это пострашнее будет…
На своем веку мне пришлось без малого тысячу сто раз покидать самолет в небе. Не все случаи запомнились. А первый… О нем хочется рассказать подробно.
Мы укладывали парашюты на длинных, сколоченных из досок столах. Зацепив за гвоздь уздечку полюсного отверстия, вытягивали купола, стропы, подвесные системы. Полотнище укладывали на две стороны, так же разбирали стропы, потом всовывали их в соты ранца.
Наземная подготовка длилась около трех часов. Инструктор рассказал о совершенных им семи прыжках.
Он наставлял:
— Парашют вводится в действие выдергиванием вот этого красного кольца. Тянуть за него надо, когда увидите низ фюзеляжа…
Укладчик — на его счету было два прыжка — утверждал:
— Парашют раскрывайте, когда начнет свистеть в ушах…
На аэродром прибыли к пяти часам. В шесть поднялись в воздух.
Когда стрелка высотомера достигла восьмисотметровой отметки, услышали команду: «Пошел!»
Я все делал, как советовал инструктор. Система сработала безотказно. Мелькнула мысль: «Неужели это так просто? Даже приятно!» Падения почти не ощущалось. Хотелось повисеть в небе как можно дольше. Но снизу уже доносился предупреждающий крик:
— Ноги, ноги!
О них-то я тогда чуть и не забыл… Но все обошлось благополучно.
После этой начальной подготовки я поехал в Оренбург, в летную школу.
Здесь от инструкторов Лаца, Житкова, Столярова я впервые услышал о самостоятельном расчете прыжка, о скольжении и о том, что самолет можно покидать и при выполнении им различных фигур высшего пилотажа.
После двух неудачных приземлений на препятствия, случившихся у нас на занятиях, командир нашей эскадрильи Трубников сказал:
— Надо учиться управлять парашютом.
— А как это делать? — спросил я его.
— А хотя бы изменяя угол плоскости купола или его объем. — Немного подумав, комэск добавил: — Вообще-то, в прыжках с горизонтально летящего самолета толку мало. Это на учениях хорошо. А во время боя мало ли что может произойти. Надо, дорогой мой, уметь прыгать из любого положения машины.
Этот разговор запомнился.
* * *
По окончании школы, а затем курсов усовершенствования по классу штурманов тяжелой бомбардировочной авиации меня направили в Западную Сибирь. Там в одном из соединений мне пришлось всерьез заняться парашютизмом. Вместе с Мартыновым, Евдокимовым, Самсоновым, Губиным, Муратовичем, Новожиловым, Каляевым учился применять парашют не только как спасательное средство, но и как средство десантирования.
Дни и месяцы проходили в тренировках и поисках. Не берусь сейчас утверждать, кто именно был пионером в выполнении того или иного нового приема, знаю только, что в нашей стране среди первых мастеров, осуществивших прыжок с самолета, вошедшего в штопор, были инструкторы Оренбургской летной школы Лац, Житков, Столяров, позже — Колосков и Петров.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу