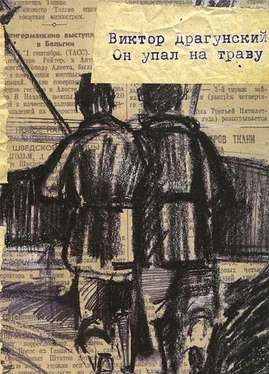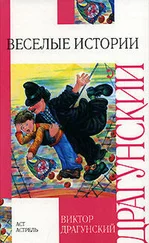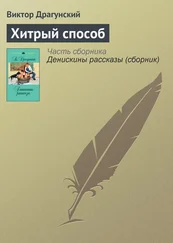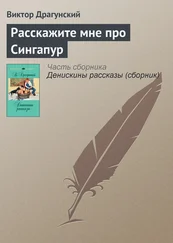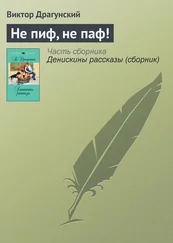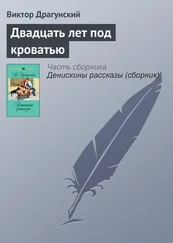— Всё сгодится, — снова сказал Степан Михалыч и покачал головой. — На этот раз, сынка, всё сгодится. Одному там танк или, скажем, миномёт, а нам с тобой лопата. Не впадай ты, Серёжка, в панику, без тебя тут не ай какой вечер танца.
Серёжка снова спрыгнул к нам и принялся за работу. Ветер полоснул как ножом, деревья завыли и стали бить веткой о ветвь в тщетной надежде согреться. А мы работали молча и зло, и я всё время думал, что Серёжка тысячу раз прав.
А к полудню ветер немного расчистил небо, стало виднее вокруг, и долгий седоволосый дождь прекратился. Солнце блеснуло, яркое и холодное. Близилось время обеденного перерыва, и к нам на участок принесли газету. Номер этот был недельной давности, но мы и такому были рады. Степан Михалыч бережно развернул газету и передал её голубоглазому наборщику Моте Сутырину. Мы встали вокруг Моти широким полукругом, закурили, наскрёбывая остатки махорки, и засунули застывшие руки в карманы. Степан Михалыч убедился, что мы готовы.
— Давай, Мотя, — негромко сказал он. — Послухаем наши дела…
Да, плохие вести читал нам свежим певучим голосом Мотя Сутырин, плохие, не дай бог. Каждое слово сводки резало нас как ножом, било безменом по темени, валило с ног.
«Оставили». «Отступили». «Отошли». «Потеряли». И это всё мы должны были слышать про нашу армию, про нас? А немцы, значит, гуляли по нашим полям, они топали и свистели, жгли что ни попадя и пытали комсомольцев?! И всё это мы слышим наяву, не в кинофильме, не в старой книжке про гражданскую войну, а сегодня, сейчас, под Москвой, мы, живые, стоим и слушаем это, засунув руки в карманы?!! Это было невозможно, нельзя, нельзя понять…
— «В деревне Дворики, — читал Мотя, — фашистский ефрейтор изнасиловал четырнадцатилетнюю Матрёну Валуеву…»
— Громче! Не слышно… — перебил Мотьку Каторга и стал расчёсывать грязные цыпки на потрескавшихся руках.
Мотька замолчал и поднял на Каторгу свои пасхальные глаза. Было видно, как задрожала газета в Мотькиных руках.
— Врут это, — снова сказал Каторга, глумясь. — Один на один не изнасилуешь!
Я обошёл Лёшку, пройдя перед Бибриком и Киселёвым, вышел вплотную к Каторге и прямо с ходу дал ему по морде. Он зашатался и отскочил.
— Ну, всё! — торжественно сказал Каторга и выплюнул длинную тесёмку крови. Он всё ещё отступал, словно для разбега. — Уж пошутить нельзя человеку! — крикнул он надрывно. — Шуток не понимаешь, хромая ты гниль? Теперь всё! — Он стал приседать в коленках для пущей зловещности. — Теперь пиши скорей мамаше, чтобы выписала тебя из домовой книги!
Каторга выхватил нож и, горлопаня и матерясь, стал исполнять увертюру перед тем, как ударить. Он жеманничал, и красовался, и рвал на себе рубашку, и всё время напоминал мне о прощальном письме к мамаше.
Но у меня не было матери. Я побежал к нему навстречу, нога мешала мне, но я добежал и снова дал ему изо всех сил.
Теперь он упал, и я кинулся ему на горло. Каторга изловчился и тусклым свои ножом резанул меня, где сердце. Ватник спас меня. Нас растащили. Шуму не было. Я пошёл на место. Каторга кликушествовал, не отдавая ножа, и клялся, что мне не жить.
Я видел, как рвётся к нему Лёшка. Но Байсеитов остановил Лёшку и вежливо взял Каторгу за руку. Каторга мгновенно позеленел, руки у Байсеитова были страшней волчьего капкана. Байсеитов отпустил его.
— Читай, Мотя, дальше, — тихо сказал Степан Михалыч.
И Мотя стал читать дальше.
13
Наш учётчик Климов заболел. Он метался на соломе, хрипел, никого не узнавал и дико кричал: «Бей» на каждого, кто подходил к нему. Случилось это на второй день нашей жизни у тётки Груни. Маленький желтоволосый её сынок смотрел на Климова и боялся. Я сходил к Бурину и доложил ему обо всём. К концу дня стало известно, что Климова повезут в Москву на каком-то чудом добытом грузовике. Повезёт Климова наш Вейсман, аптекарь, старик с лицом президента, бабник и звонарь. Представлялась возможность написать письмо. После работы мы сидели кто где и строчили.
Я сидел у изголовья Климова, слушая его бред, и писал письмо Вале:
«Валя, я жив. Я посылаю тебе это письмо с оказией, чтоб ты знала, что я жив. Ты плакала в тот день, когда я сказал тебе, что уезжаю. Ты плакала, Валя, и я вдруг поверил, что ты любишь меня. Верно ли я подумал? Ведь ты никогда ещё не говорила мне о любви. Но когда ты заплакала, узнав, что я уезжаю, я вдруг совершенно поверил, что ты меня любишь. И понял ещё и то, что я-то тебя люблю, и что это написано во мне большими буквами, и я всегда могу сказать это при всех, не стыдясь. Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.
Читать дальше