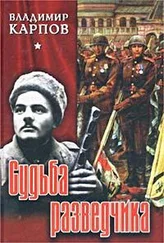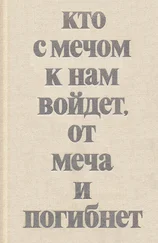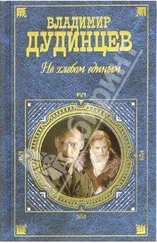До меня вот, видите, дошло. И дальше может пойти. А никакого происшествия пока и нет!
Возвращаясь домой, Иван Петрович думал: «Действительно ли я поторопился или тут что–то не так? Никишов прав, проинформировать я был обязан, но ведь сам же он говорит, что происшествия нет, значит, и докладывать мне не о чем. Что–то его все же беспокоит. Озадачен. Не случившимся, а вот этими кругами, которые могут разнести молву. Вроде бы подполковник не из трусливых, всегда вопросы решал принципиально, без оглядки на верха. Что же теперь его озаботило?»
Профессор Александр Петрович Голубев стоял перед зеркалом и гневался — никак не мог завязать галстук:
— Черт побери! Зачем придумали эту глупую, совершенно ненужную тряпку? Никакого смысла, болтается и только мешает, — бормотал он, путаясь в блестящей, темно–свекольного цвета, ленте галстука.
Раздался звонок у двери, в переднюю пошла жена профессора Ирина Аркадьевна, немного располневшая, красивая женщина. На ней был стеганный в мелкие квадратики атласный халат.
Ирина Аркадьевна вернулась с пачкой газет и журналов. Вместе с газетами она внесла в залу прохладную свежесть утра и приятный запах типографской краски. В белой, холеной руке Ирина Аркадьевна держала еще и письмо — она несла его, как цветок, и, улыбаясь, глядела на него тоже как на цветок.
— От Юры! — радостно сообщила Ирина Аркадьевна и, положив почту на стол, хотела вскрыть конверт, но Александр Петрович позвал:
— Ира, ну помоги, пожалуйста, я опаздываю. Жена, не выпуская письма из рук, глядя счастливыми глазами на знакомый почерк, нежно говорила:
— Мальчик ты мой! Каракумский песчаный человечек! — Она так звала Юрия по аналогии с появляющимися иногда сообщениями в газетах о «снежном человеке». Мужу она сказала совсем иным, но тоже любящим тоном, с легким оттенком досады:
— Горе ты мое, синхрофазотроны выдумываешь, а галстук завязывать не научился! — Она ловко сделала широкий красивый узел. Александр Петрович тут же поспешил в кабинет и стал укладывать бумаги в кожаный коричневый портфель. Через открытую дверь он говорил жене:
— Мой содоклад после обеда, я тебе позвоню, как пройдет.
Профессор не хотел опаздывать, он всегда был точен, это осталось у него с военной службы. В кабинете на стене в тонкой металлической рамочке висела фотография. Будущий профессор, очень похожий на сегодняшнего Юру, в черном ребристом танковом шлеме, сидел на крыле тридцатьчетверки.
Ирина Аркадьевна вернулась к столу, поудобнее села в кресло. У нее был своеобразный ритуал чтения писем сына. Она не спешила, открывать их — продлевала удовольствие. Рассматривала конверт, марку, по почерку пыталась определить настроение сына. Затем осторожно вскрывала конверт тонким специальным ножичком из слоновой кости и, стараясь уловить запах Юриных рук, медленно разворачивала сложенный вчетверо лист бумаги. Юра ей писал умные, иногда полные юмора по поводу солдатской жизни и военных порядков письма. Ах какой он умный! Как любит его Ирина Аркадьевна! Она сделала все, чтобы сын стал ученым, продолжил дело отца. Правда, сам Юра на этот счет особого энтузиазма не проявлял, его больше влекло к поэзии. Он писал стихи. Но Ирина Аркадьевна была уверена: пример отца, серьезность, которая придет с годами, интеллигентность сделают свое дело. Юра увлечется наукой, стихи — это несерьезно: кто в юности не писал стихов! А пока шло созревание сына, Ирина Аркадьевна делала все для расширения его знаний. Она водила его в музеи, на симфонические концерты, международные и союзные выставки — благо всего этого в Ленинграде было предостаточно. Юрик должен был смотреть по телевизору в обязательном порядке то, что мать после тщательного прочтения подчеркивала в программе зеленым карандашом. Она и цвет карандаша выбрала сознательно — зеленый — разрешительный. У профессора была хорошая библиотека, он выписывал много журналов и газет, всем этим Юра пользовался без ограничений. Он действительно рос очень смышленым и развитым мальчиком. Но так продолжалось до шестого класса. Когда Юре исполнилось тринадцать лет, его словно подменили. «Невольно станешь суеверной, — думала Ирина Аркадьевна, — именно в тринадцать Юра стал неузнаваем: грубый, непослушный, какой–то вредный, во всем сомневающийся. К матери и отцу стал относиться с непонятной раздражительностью, не терпит никаких поучений, просто не желает ничего слушать!»
Читать дальше