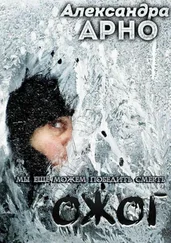Андрей поднялся с расстеленной на соломе плащ-палатки и зашарил вокруг себя в темноте, ища фляжку с водой. Пальцы наткнулись на что-то холодное и металлическое. Кружка, – догадался Андрей.
– Ты чего не спишь? – спросил сзади сонный девичий голос.
– Попить встал, – шепнул Андрей. – Ты спи, спи.
Он наконец нашёл фляжку, впотьмах отвинтил пробку и глотнул прохладную свежую воду.
Уже четвёртые сутки они ехали на Восток. Домой. Им с Любой, как молодожёнам, позволили ехать в отдельном вагоне. Берлин пал, оставшиеся в живых немецкие генералы безоговорочно капитулировали, признав за русскими победу. В тот день, когда объявили об этом, Берлин ликовал. Не немцы – Красная Армия. Немцы наоборот в страхе попрятались по домам. Солдаты с громкими радостными воплями вовсю палили из автоматов и плясали прямо посреди заваленных обломками, разрушенных улиц. И Андрей с Любой радовались вместе со всеми – правда, в госпитале, а не в немецкой столице.
Но оставить свои подписи на Рейхстаге они всё же успели – после того, как Андрея, наконец, отпустили из госпиталя. Они с Любой до самой полуночи бродили по Берлину, взявшись за руки и счастливо улыбаясь друг другу. Филимон спокойно сидел за пазухой. Сперва его напугали выстрелы, он несколько раз пытался убежать, до крови царапая руки, а потом крепко уснул.
«Я люблю Любушку», – написал Андрей куском угля на мощной колонне у главного входа в святая святых уже несуществующего Третьего Рейха. Люба заливалась весёлым серебристым смехом за его спиной, потом отобрала уголёк и нацарапала чуть ниже: «А я люблю Андрея». Андрей подхватил её за талию.
– Душа моя! – воскликнул он. – Родная!
Жить хотелось до одури, до крика, рвущегося из дважды раненой груди. Воздух Берлина пьянил, тянул глянцево-зелёный лист старый, чудом не сгоревший платан. Хотелось оставить, наконец, позади войну.
«Мы скоро вернёмся домой», – написали они, вместе держа уголёк.
И вот они едут домой. Германия давно осталась позади, и теперь перед ними раскинулась необъятная родина.
Андрей вернулся к жене, обнял её и крепко прижал к себе. Люба тихонько вздохнула, провела пальцами по его гладко выбритой щеке, звонко чмокнула в губы. Он ощущал её дыхание на своём лице, и сердце сладко-сладко сжималось. А ведь это Ульяну стоит благодарить за внезапно свалившееся ему на голову счастье! Если бы не она и её лётчик, он бы так и не заметил прекрасную девушку по имени Любовь рядом с собой.
– Дурак ты, Лагин, – тихо засмеялась Люба. – Улыбаешься чего-то сам себе. Я когда тебя впервые увидела, так сразу и подумала: дурак какой-то.
– Почему сразу дурак? – картинно надулся Андрей и, перевернувшись на спину, скрестил руки на груди. – Я не буду с тобой разговаривать, ты обзываешься!
– Вот потому и дурак. – Люба приподнялась на локте. – Но почему-то понравился ты мне тоже сразу.
– Это потому ты меня косынкой била? – засмеялся Андрей.
Откуда-то из темноты замяукал Филимон, и через секунду Андрей ощутил на своём животе его тонкие лапки. Он нагло прошёлся по нему, залез между ними с Любой и улёгся спать.
Командира второй роты сто пятьдесят третьей стрелковой дивизии, капитана Лемишева, ранило 23 ноября 1942 года. Ранило тяжело. Ногу выше колена разворотило практически в мясо, а порезов и рваных ран на теле было столько, что и по пальцам не посчитать – немецкая граната взорвалась всего в метре от него. Из-за большой кровопотери Лемишев не приходил в себя, и уставшие, измотанные не меньше солдат врачи решили не использовать анестезию – зачем, если раненый и так без сознания. Кроме двух врачей, что оперировали его, об этом знала только медсестра Соня, которой строго-настрого наказали держать рот на замке.
– Сейчас не пойми что творится, – сказал Сан Васильич. – Начальство как с ума посходило, так что мало ли… Не говори на всякий случай. Никому. Поняла?
Соня кивнула, хотя слов хирурга практически не слышала – она с тихим ужасом смотрела на лежащего на продавленной койке Лемишева. Мундир и шинель с него сняли, гимнастерку наспех разрезали ножницами; вставшие колом от высохшей крови края ткани прилипли к коже. Смотрелись раны страшно, и Соне приходилось снова и снова сдерживать подступающую к горлу тошноту.
На фронт она прибыла сравнительно недавно – всего-то два месяца назад, но искренне полагала, что и за эти два месяца насмотрелась такого, что и в страшном сне не привидится. Сколько жизней оборвалось у неё на глазах, сколько молодых красивых парней стали инвалидами, сколько сошли с ума! Соня уже и лиц их не помнила: они проходили нескончаемой окровавленной чередой, один за другим, один за другим… Ей казалось, что душа её давно зачерствела – она уже без какого-либо страха и горечи выписывала похоронки – эти скорбные серые бумажки с сухой информацией, закрывала окоченевшие веки, сносила в братскую могилу тела молодых ребят. Первое время каждая смерть вызывала у неё внутреннее содрогание и жгучую, нестерпимую боль, теперь же она не реагировала практически ни на что.
Читать дальше