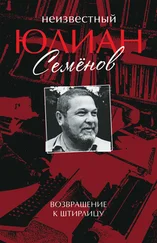«Джаз – музыка толстых? – подумал Степанов, слушая ее песню. – Накладка с этим делом вышла, по-моему».
Музыкантам было холодно, потому что пещера была глубокой, чтобы сюда не доходили помехи во время бомбежек, а курточки на джазистах были хлопчатобумажные, легкие. Они поэтому особенно яростно притопывали ногами и быстро передвигались, сменяя друг друга у микрофона. Но, видимо, постепенно ритм песни захватил их, и они забыли про холод; только аккордеонист, вконец простуженный, то и дело шмыгал носом и покашливал, опустив голову к перламутровой деке.
– О чампа, мой цветок, – пела Кемлонг, закрыв глаза и откинув голову, – какое счастье близко видеть тебя и чувствовать твое цветенье и бояться, что скоро все это кончится…
– А теперь, – сказал диктор, озорно посмотрев на Степанова, – Кемлонг исполнит песню лам-вонг в честь нашего друга.
Кемлонг запела:
Вокруг тебя ночь, но жди!
Пусть грусть, пусть один, но жди!
Пусть ночью идут дожди,
Пусть утром туман, туман,
Ты – жди…
Она стала приплясывать, меняя ритм, приглашая и Степанова танцевать вместе с ней. Лицо ее было сейчас неулыбчивым, строгим, громадноглазым.
Пусть дожди, пусть туман,
Но ты…
жди…
Жди…
жди…
Потом к микрофону подошел монах Ка Кху. Степанов и Кемлонг вышли из пещеры. Млечный Путь запрокинул свои руки, словно в плаче по этой скорбной земле. Ночь была безмолвной и холодной. Черные скалы вокруг были особенно рельефны и близки из-за алюминиевого надменного света луны.
– Здесь есть такие пещеры, – сказала Кемлонг, – в которых песни звучат по-разному.
– Покажете?
– Пошли.
Она взяла его за руку и повела через лощину по едва заметной тропинке к тому месту, где шумел ручей. В густой темноте плавали зеленые точки светлячков. Вход в пещеру был низеньким – Степанов ударился лбом, и Кемлонг испуганно спросила его:
– Больно?
– Очень, – ответил он.
– До крови?
– Сейчас упаду, – сказал Степанов и застонал.
Кемлонг взяла его голову обеими руками, приблизила к себе и сказала:
– Ничего нет.
Степанов засмеялся:
– Я пошутил.
Кемлонг погладила пальцами то место, которым он ударился, и сказала:
– Сейчас все пройдет.
– Уже.
– Что? – не поняла она.
– Прошло.
– Ну, пошли.
И они шагнули в гулкую кромешную темноту.
– У вас нет фонарика? – спросила Кемлонг.
– Есть. Зачем?
– Просто так. Вы станьте здесь, а я отойду вот туда.
– Куда?
– Здесь есть уступ.
– Вы как кошка – видите в темноте?
– А разве кошки видят в темноте?
– Еще как.
Кемлонг усмехнулась:
– Не зря, значит, женщин считают кошками.
Она запела, и голос ее сейчас был совсем иным – низким и гулким.
– Теперь пойдем дальше, – сказала она, – в следующей пещере будет иначе.
– Я ничего не вижу, Кемлонг.
– Я тоже, – улыбнулась она.
Степанов слышал ее шаги, а потом почувствовал ее рядом с собой – близко-близко.
– Когда война, – шепотом сказала она, – очень хочется любить кого-то, кто сильнее.
Степанов чувствовал, что она хочет, чтобы он обнял ее. Это всегда чувствуешь.
Она вздохнула и сказала:
– Пошли в следующую пещеру. Я ее зову веселой.
Кемлонг снова взяла его за руку и повела за собой.
– Здесь опустите голову. Сейчас повернем налево. Вот здесь. Стойте.
Она отошла от Степанова, и он услышал иной голос, повторявшийся разнозвучащим эхом:
Какая же она, любовь?
Огромная, как облако, или маленькая,
как опавший лист?
Кто видел ее – глаза в глаза?
Никто, никто, никто…
А счастье какое? Светлое, как утро,
или пронзительное,
Как одинокие сумерки?
Кто ответит мне?
Эхо, мое эхо, только эхо…
00.40
– Мы с тобой люди разных скоростей, Сара. Каждому человеку сообщена своя скорость. Так вот, наши скорости, как выяснилось, не совпали.
– Пойдем танцевать, Эд. Бог с ними, со скоростями.
– Я не хочу танцевать.
– Я прошу тебя, Эд… Я тебя очень прошу…
– Я не буду танцевать, – повторил он и сразу же подумал: «Зачем я говорю с ней так? Ведь она – единственный человек на земле, который меня любит. Она знала меня вывернутым наизнанку и все равно любит меня. Она знала про всех моих баб и все равно любила меня. У меня у самого комплекс неудовлетворенности – при чем здесь она?»
– Ну, представь себе, что я вернулся, Сара. Что будет?
Она ответила:
– Не знаю.
– Хорошо, ты не знаешь… Тебе легко ничего не знать. Ты всегда пряталась за мою спину: «Эд все знает, он что-нибудь придумает!» А как быть с Уолтом? Как быть с нашим мальчиком?
Читать дальше

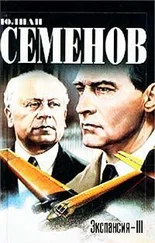

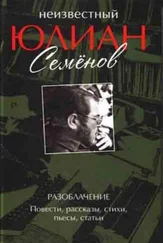
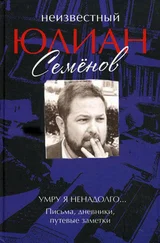
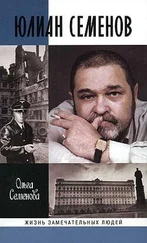
![Юлиан Семенов - ...При исполнении служебных обязанностей. Каприччиозо по-сицилийски [Романы]](/books/420963/yulian-semenov-pri-ispolnenii-sluzhebnyh-obyazannostej-kaprichchiozo-po-sicilijski-romany-thumb.webp)