На вопрос Шахаева Михаил долго не мог подобрать ответа, ворошил свои белые волосы, смущенно поглядывая на Мотю, которая давно уже стала служить у разведчиков и сейчас сидела тут же на бревнышке. Эта бой-баба за последнее время как-то переродилась, уже не задирала больше старого Куэьмича, никому не дерзила, говорила тихо и певуче, точно любовь к Михаилу вытеснила из нее все бойкое и нахальное, сгладила, сровняла грубые и колкие черты ее характера.
— Ну, так как же? — повторил свой вопрос Шахаев.
Лачуга шумно вздохнул, горько улыбнулся:
— Не гожусь для партии, товарищ старший сержант.
— Почему?
— Малограмотен я. Да и в политике плохо разбираюсь.
— Это можно поправить. — Парторг расстегнул свою неизменную сумку и вынул оттуда какую-то книгу. — Вот возьми, почитай.
— Что вы! Не одолею! — и печально улыбнулся, обнажая щербатую челюсть. — Не по зубам…
— Ничего, возьми. Одолеешь. Поможем.
Михаил взял книгу.
Шахаев ушел удовлетворенный. Теперь он почти наверняка знал, что Лачуга со временем будет хорошим коммунистом. А это значит, что после войны в какое-то украинское селение придет новый руководитель, может быть председатель колхоза, подобно Пинчуку, или бригадир в крайнем случае.
— Хорошо!
Шахаев тихо напевал какую-то свою, бурятскую песенку. Извиваясь, она то поднималась вверх, путаясь в вершинах яблонь, то срывалась вниз и стелилась по земле, покрытой густой желтеющей травой.
— Хорошо! — кончив петь, громко проговорил он и рассмеялся. Потом резко оборвал смех, помрачнел: — А что же с Ваниным? Почему я до сих пор не могу узнать, что с ним?
Не заходя в дом, Шахаев направился к начальнику политотдела, надеясь с его помощью навести справки о Ванине.
А он поправлялся: ранение было не столь уж серьезным — просто разведчик потерял тогда много крови. В этот день ему впервые разрешили немножко погулять по улице. Щуря на солнце беспечальные, чуть-чуть посерьезневшие светлые глаза, худой и слабый, переполненный радостным желанием жить до скончания мира, он выбрался за городок, в котором стоял армейский госпиталь, и по узкой дороге направился к лесу, к тому самому, где он был ранен. Дойти туда ему не удалось. Встретился какой-то капитан, спросил Сеньку, кто он и откуда. Ванин ответил и, незаметно для себя, рассказал всю историю своего ранения. Глаза капитана загорелись, он схватил разведчика за плечи и потащил в сторону, твердя:
— Голубчик! Вот здорово, черт возьми! А мы давно тебя, брат, ищем!
Капитан оказался, как уже догадывался Ванин, корреспондентом армейской газеты. В редакции и в самом деле слышали о подвиге разведчиков, да не смогли найти Семена.
Офицер привел его в большой дом, где трудилось еще несколько журналистов.
Ванин рассказал обо всем заново. Капитан записал его рассказ в свой блокнот и поблагодарил разведчика. Вначале Ванин чувствовал себя в незнакомой редакции несколько стесненно. Но уже через пятнадцать — двадцать минут он весело и беспечно болтал с журналистами, подогреваемый их острыми шутками. Труженики пера ему явно понравились: они чем-то, должно быть своей веселостью, напомнили ему разведчиков. Среди них будто и не было старших и младших. Все — равные, одинаково остроумные и легко возбуждающиеся.
Уходил Семен от своих новых знакомых неохотно. Давно он уж так не дурачился, как в этот день. По дороге в госпиталь вспомнились ему разведчики, Вера, и сердце больно заныло.
«Через педелю убегу», — решил он твердо.
И, несколько успокоенный принятым решением, вошел в свою палату.
За окном сгущались тени. Сентябрь дышал в открытую форточку прохладой, манил куда-то, в горы, наверное, в царство ветров, туч и орлов — туда, где скрылись, как в океане, друзья-товарищи, боевые его побратимы.
Эх, путь-дороженька! Далеко увела ты русского солдата!
Ванин разделся, лег на койку и, убаюканный ожиданием чего-то светлого в будущем и усталым колебанием дремотной тишины, быстро заснул крепким сном выздоравливающего человека, наливающегося новыми и всесильными соками жизни.
Георге Бокулей с трудом вставил обойму в свою винтовку. Сердце солдата стучало часто и громко. Перед его глазами неотступно стояло лицо Василики — то прекрасное, каким оно было всегда, то обезображенное, каким оно было у нее мертвой. «Василика, солнце мое!.. Колокольчик ты мой звонкий!..» Георге делал много ненужных движений: надевал каску, вновь сбрасывал ее, перематывал зачем-то обмотки, застегивал и расстегивал ворот грубошерстного мундира. Брат его, Димитру, был все время рядом с ним и беспокойно следил за Георге.
Читать дальше
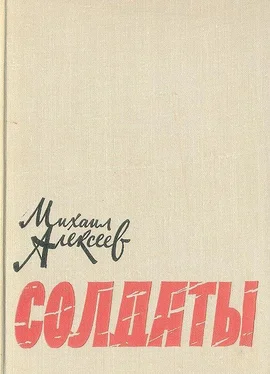









![Михаил Михеев - Солдаты погибшей империи [litres]](/books/430374/mihail-miheev-soldaty-pogibshej-imperii-litres-thumb.webp)
