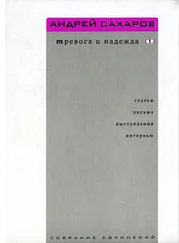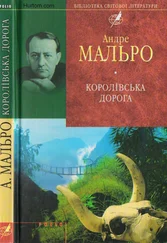— И пускай не делают всю дорогу вид, что считают анаров сворой чокнутых! — говорил Негус. — Вот уж сколько лет испанский синдикализм работает по-серьезному. Ни с кем не вступая в компромиссы. У нас не сто семьдесят миллионов, не то что у вас; но если мерять ценность идеи количеством сторонничков, то вегетарианцев в мире больше, чем коммунистов, даже считая всех русских. Всеобщая забастовка — существует это или нет? Вы вон сколько лет на нее нападаете. Перечитайте Энгельса, это вам будет полезно. Всеобщая забастовка — это Бакунин. Я видел коммунистическую пьесу, где выведены анары; на кого они похожи? На коммунистов, какими их представляют себе буржуи.
В полутьме статуи святых, казалось, подбадривали Негуса, экстатически воздевая или простирая руки.
— Будем поосторожней с обобщениями, — проговорил Мануэль. — Личный опыт Негуса был, возможно… скажем, неудачным: коммунисты не все безупречны. Кроме нашего русского товарища (имя я забыл, извини) и Прадаса, за этим столом, я, по-моему, единственный член партии. Эрнандес, ты как считаешь, я — поп? А ты, Негус?
— Нет, ты парень что надо. И ты воюешь. У вас немало ребят что надо. Но есть и другие.
— Еще одно: вы, анархисты, говорите так, словно у вас монополия на честность, и называете бюрократами всех, кто с вами не согласен. Но вы ведь сознаете все-таки, что Димитров — не бюрократ! Димитров против Дуррути — это одни нравственные ценности, противостоящие другим, а не махинация, противостоящая нравственным ценностям. Мы — товарищи, будем же честными.
— А кто как не ваш Дуррути написал: «Мы откажемся от всего, кроме победы!» — сказал Прадас Негусу.
— Угу, — проворчал тот сквозь зубы (они у него выдавались вперед), — но знал бы он тебя, Дуррути, надавал бы тебе пинков в зад!
— К сожалению, вы вскоре убедитесь, что, конкретно говоря, нельзя заниматься политикой с вашими нравственными ценностями, — гнул свое Прадас. — Так что…
— С другими тоже нельзя, — сказал чей-то голос.
— Вся сложность, — сказал Гарсиа, — и, возможно, вся драма революции в том, что без нравственных ценностей ее тоже нельзя совершить.
Эрнандес поднял голову.
На ноже у Мануэля блеснуло пятно света, точно он резал ножом солнце.
— У капиталистов есть одна неплохая вещь, — сказал Негус. — Со смыслом. Даже удивляюсь, как додумались. Надо будет нам здесь сделать что-то в этом роде, когда война кончится. Для каждого профсоюза. Единственное, что я у них уважаю. Слово «неизвестный». У них это «Неизвестный солдат», но можно придумать и получше. На Арагонском фронте полно безымянных могил, я сам видел: на камне или на дощечке стояло только ФАИ либо НКТ. Это меня… это было здорово. В Барселоне, когда колонны направляются на фронт, они проходят мимо могилы Аскасо, и все молчат намертво; тоже здорово. Лучше, чем любое словоговорение.
Кто-то из ополченцев пришел за Эрнандесом.
— Христиане… — пробормотал Прадас себе в бородку.
— Священник вышел? — спросил Мануэль, уже вставший из-за стола.
— Нет еще, — ответил Эрнандес. — Меня вызывает комендант.
Эрнандес вышел в сопровождении Мерсери и Негуса, который надел свой головной убор — не мексиканское сомбреро, как накануне, а черно-красную каскетку федерации анархистов. Мгновение все молчали, слышалось только звяканье приборов, как всегда в конце еды за столом у военных.
— Почему все-таки он велел отправить письмо? — спросил Головкин, обращаясь к Гарсиа.
Он чувствовал, что Гарсиа уважают все, даже Негус. И Гарсиа говорил по-русски.
— Что ж, давайте по порядку… Первое: из нежелания отказывать; офицером он стал по отцовскому решению, республиканцем стал много лет назад из либерализма, к тому же он достаточно интеллигентен… Второе: заметьте, что он кадровый офицер (здесь он не единственный), и как бы он ни относился в политическом плане к соседям напротив, это обстоятельство играет свою роль. Третье: мы в Толедо. Вы знаете, в начале всякой революции немало театральщины; сейчас и здесь Испания — сплошное подражание Мексике [74] Имеется в виду мексиканская революция 1910–1917 гг.
…
— A в другом лагере?
— Телефонная связь между нашим штабом и Алькасаром не прервана, и обе стороны пользуются ею с начала осады. Во время последних переговоров было решено, что мы отправим парламентером майора Рохо. Рохо здесь же и учился. У него с глаз снимают повязку: перед ним дверь кабинета Москардо. Вы видели снаружи стену, что слева. Пробоина. Кабинет под открытым небом. Москардо при всем параде сидит в кресле, Рохо на стуле, из тех, на которых сиживал в годы ученья. И над головой Москардо, мой добрый друг, на уцелевшей стене — портрет Асаньи, который они забыли снять.
Читать дальше