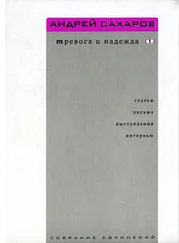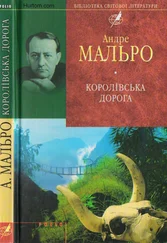— Настоящий бой, — сказал Хименес, — начинается, когда приходится сражаться с чем-то в себе самом… До этого все слишком просто. Но человеком становишься только в таких боях. Всегда приходится сталкиваться с целым миром в себе самом, хочешь ты этого или нет…
— Вы мне сказали как-то: главный долг командира — внушать любовь, не пуская в ход личное обаяние — не «обольщая». Внушать любовь, не «обольщая» — и не обольщаясь.
В широком распадке между горами стал виден другой склон Сьерры; над Мадридом, почти неразличимым на сером просторе равнины, со скорбной медлительностью поднимались огромные клубы темного дыма. Мануэль знал, что они обозначают. Город исчезал за дымом пожаров, как исчезают за дымом боя военные корабли. Дымные столбы вздымались над бесчисленными пожарищами, алое свечение которых было отсюда невидимо, и распадались высоко-высоко в сером небе; казалось, все облака рождаются в этом единственном очаге, развернутом по направлению их движения, и все муки, скопившиеся за тонкой белой черточкой, которая отграничивала Мадрид от окрестных лесов, заполняли огромное небо. Мануэль вдруг осознал, что медлительный и тяжелый ветер, принесший запах гари с Куатро-Каминоса и Гран-Виа, выгнал у него из памяти то, что случилось ночью.
Подъехала автомашина, в ней сидел один из офицеров Хименеса.
— Подполковника Мануэля вызывают к телефону. Из генерального штаба.
Они поспешно вернулись; Мануэль был слегка встревожен. Он позвонил в штаб.
— Алло! Вы меня вызывали?
— Главное командование благодарит вас за проведение вчерашней операции.
— Служу республике.
— Вам известно, милисиано, бежавшие с поля боя, возвращаются, чтобы снова зачислиться в часть.
— По решению главного командования из этих элементов будет сформирована бригада. Это самые трудноуправляемые из всех наших бойцов.
— По мнению начальника штаба, у вас есть все требуемые качества, чтобы принять командование.
— Вот как!
— Ваша партия того же мнения.
— Таково же мнение генерала Миахи. Вы немедленно примете на себя командование этой бригадой.
— А мой полк? Мой полк!
— Насколько мне известно, он вольется в состав одной из дивизий.
— Но я же знаю в нем каждого поименно! Кто сможет…
— По мнению генерала Миахи, вы достойны принять командование этой бригадой.
Когда Мануэль отошел от аппарата, его уже ждал Хейнрих. Интербригадовцы готовили контрнаступление на Сеговию, и Хейнрих направлялся к Гвадарраме. Они выехали вместе.
Машина съезжала вниз по склону. Мануэль считал, что неплохо знает Хейнриха, поскольку знает его стиль командования; но по мере того как Мануэль излагал ему вкратце события вчерашнего дня и свой разговор с Хименесом, у него складывалось впечатление, что между ним и генералом человеческое общение сводится к той странноватой связи, которая устанавливается между переводчиком и тем, кого он переводит.
Хейнрих сидел, чуть понурившись; на выбритом затылке не было ни складочки, и выражение задумчивости придавало его старому, гладко выскобленному лицу что-то мальчишеское:
— Сейчас мы меняем весь ход войны. Ты ведь не Думаешь, что можно менять ход вещей, а самому при этом не меняться. В тот момент, когда ты соглашаешься стать одним из командиров в армии рабочих, ты теряешь право на собственную душу.
— А ваш коньяк?
Мануэль видел, как по приказу Хейнриха всем любителям выпить из его бригады было выдано по бутылке коньяку, причем вместо обычной этикетки на них красовалась другая, гласившая: «От генерала Хейнриха. После работы — все, во время работы — ничего».
— Свое сердце ты можешь оставить при себе, это другое дело. Но тебе придется утратить душу. Ты уже утратил длинные волосы. И прежний свой голос.
Словарь был почти как у Хименеса; но тон был другой, жесткий тон Хейнриха, и голубые глаза без ресниц смотрели пристально, как в Толедо.
— Что вы, марксист, имеете в виду, когда говорите «утратить душу»?
На «ты» обращался теперь только старший к младшему.
Хейнрих глядел на сосны, мелькавшие в унылом свете дня.
— Во всякой победе есть утраты, — сказал он. — Не только на поле боя.
Он крепко стиснул плечо Мануэля и сказал тоном, которого тот не понял — то ли горечь в нем звучала, то ли опытность, то ли решимость:
— Отныне ты никогда больше не должен жалеть пропащего человека.
Глава семнадцатая
Мадрид, 2 декабря.
Перед окном двое убитых. Раненого оттащили в глубь комнаты за ноги. Пятеро обороняют лестницу, около них ручные гранаты. Человек тридцать интербригадовцев засели на пятом этаже розового дома.
Читать дальше