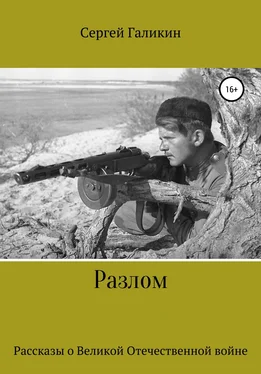Да он и сам, хуторок-то, одна кривая, увитая разляпистыми абрикосами да старыми акациями пыльная улочка, спускающаяся к неглубокой тихой речушке. А там – небольшая склизская старая деревянная кладка, бабам белье полоскать, да мальчишкам летом купаться. Но теперь, уж после Ильи, и на речке – не видать никого. Только изредка лениво поквакивают где-то в камышах глупые полусонные лягухи.
Маруське Астаховой скучно дома одной. То хоть Тишка, поколачивая по заборам неизменной своей палочкой, любовно выструганной им из дубовой ветки, бродил по пустой улице. То там засмеется, то с тем заговорит. Говор у него был невнятный, но разобрать-то при случае можно… Слабоумный был, но добрый, ласковый, встречным всегда улыбался и всем кланялся. Зла никому никогда не делал, ну, шутил безобидно порой, хуторяне его жалели, бабы подкармливали, кто чем мог, ребятишки по-своему любили. Откуда он прибрел на хутор, никто не знал, пристроили его на постой к старому, овдовевшему прошлой осенью, Аникеичу.
Но когда уже фронт, где-то в стороне угрюмо отгремев да отсверкав, как та гроза по июльским ночам, откатился далеко на восток, ехали как-то раз вечером на мотоцикле по пустынной пыльной улице невиданные еще ни разу в этих глухих краях немцы. Пьяные и веселые, с песнями, играли на губной гармонике. Обнаружив в конце прохладной абрикосовой аллеи дыбящийся журавель хуторского колодца, вдруг остановились, видимо, решив освежиться холодной водицей. Сняв горячие запыленные каски, автоматы, ранцы и прочую амуницию, беззаботно хохоча и гортанно подшучивая над одним из своих, самым молодым, вихрастым да белоголовым, с еще полудетским чистым лицом, долго они тут обливались ледяной родниковой водичкой.
А из всех укромных мест, из желтеющих терновых кустов, из зарослей широких перезревших лопухов, из-за задернутых занавесок да полузакрытых дверей и ставен робко и с любопытством наблюдали за чужаками десятки пар настороженных хуторянских глаз. А Тишка, так же как и всегда, весело смеясь, приплясывая да кривляясь, уже подходил к чужакам. Те сразу, добродушно что-то горланя, окружили его, юродивого, посмеиваясь и приятельски похлопывая по плечам. Один, постарше, протянув ему сигарету, пытался что-то выяснить, настойчиво спрашивая Тишу на чужом противном языке и широко жестикулируя. Но тот только глупо улыбался, да кланялся истово в пояс, вызывая у пришельцев все новые взрывы хохота. Наконец, старший дал команду, мотоцикл завелся, немцы вскочили по местам, на ходу напяливая свои камуфлированные каски да ранцы, продолжая смеяться и шутить… Тишка же, напротив, опустив устало руки, поднял подбородок с редким пушком, стал каким-то пасмурным и строгим.
Мотоцикл резко дернулся и заглох. Рулевой немец, не сходя с седла, озабоченно скривив тонкие губы, снова сильно крутанул ногой заводную лапку. Мотор опять взревел, опять дернулся и снова заглох немецкий мотоцикл! Старший, с ругательствами выпрыгнув из коляски, стал злобно орать на водителя, а тот, несмело огрызаясь, тоже вскочил и нагнулся над мотором. Но тут другой, молоденький, что сидел на заднем седле, белобрысый да вихрастый, усмехнулся и легонько толкнул водителя в плечо, взглядом показывая на заднее колесо.
Там, между слегка погнутых толстых спиц, торчала Тишкина, любовно струганная дубовая палочка, знакомая всему хутору. Сам же Тишка вдруг весело расхохотался, схватившись картинно за живот, приплясывая и истово кривляясь.
Немец со злостью вырвал из колеса и отшвырнул палку в придорожные кусты. Широко расставив ноги и уперев волосатые руки в бока, свысока, хмуро исподлобья уставился на этого издевающегося над ними русского. Лицо его помрачнело и стало багровым. Сдернув со спины автомат, дал с пяти шагов короткую очередь. Тишку отшвырнуло на спину и он какое-то время еще судорожно бил ногами по дороге, поднимая серую пыль и загребая ее руками.
Когда же за мотоциклом улеглось пыльное марево и стих, удаляясь, стрекот мотора, осмелевшие хуторяне бросились к нему, но Тишка уже отходил, лишь мелко подрагивали его посиневшие губы, да широко распахнутые тускнеющие глаза задумчиво и неподвижно устремились в мирное летнее небо. Две кровавые кляксы грязно растекались по груди на замусоленной изношенной его рубахе.
Тишу, безродного, не имевшего на хуторе никакой родни, в тот же вечер похоронили всем немногочисленным миром, бабы да девки жалобно и протяжно тужили, старики, скорбно сомкнув губы, молчали. Перекрестил трижды дедушка Митроха небольшой его свежий крестик, да и тихо разошлись…
Читать дальше