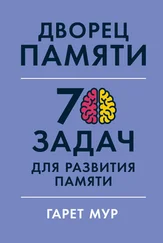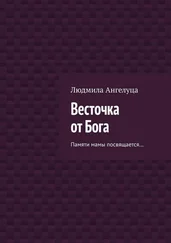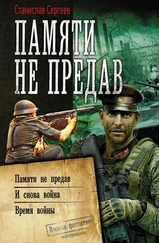− Мам, погода отличная, нам повезло! Могу посмотреть в интернете где, мы.
− Хорошо, только я устала немного, − я присела рядом.
Дочь окинула меня внимательным взглядом:
− Давай я спущусь вниз и попрошу приготовить нам чай, а ты пока почитай, где мы, − сунув мне свой телефон, она ушла.
Очки остались в сумочке, а без них было сложно читать. Отложив телефон в сторону, я стала ждать Олю. Она быстро вернулась. Чай возвращал мне силы. Я немного расслабилась, слушая, что нашла дочь в интернете:
− Итак, наш отель находится в Вильмерсдорфе, это юго-запад Берлина. Район Вильмерсдорф считается очень престижным. Так как, около половины жилых домов были разрушены во время второй мировой войны. В районе находятся не только старые шикарные виллы и особняки, но и многоквартирные жилые дома, построенные после войны. Почти всю западную часть района занимает лес и озёра. Можно сказать, что в этом районе встретились две противоположности: природа и бетонный город. В Вильмерсдорфе всегда жили знаменитости: политики, экономисты, деятели науки и культуры. Здесь много посольств и посольских резиденций… Ну что? Как ты? Готова на небольшую прогулку? − спросила она.
Я не могла ей отказать и утвердительно кивнула. Район оказался и впрямь красивым, с чистыми, аккуратными улочками. Мы зашли в первый попавшийся ресторанчик. Пока ждали наш заказ, я вспоминала, как готовила моя бабушка. Оля была в деревне совсем маленькой и не помнила почти ничего. Мне приятно было, что ее любопытство коснулось моей семьи, моего детства… Нам принесли жаркое из картошки с мясом в горшочках… Память вновь вернула меня в мой родной дом. Ни одна деталь не ускользнула от меня… Я на кухне. Напротив, русской печки, висит рукомойник, под ним стоит на табуретке деревянной тазик, а под табуреткой − ведро. Здесь же рядом прибита вешалка для обыденной одежды − для фуфаек, в которых ходили управляться к скотине, во двор, в огород. Около печки − деревянный шкаф для посуды (чайной и столовой). А ниже − лавка, под которой располагались чугуны. Бабушка доставала их из русской печи ухватом или рогачом, наполненными и утомленными в печи деревенской пищей.
− Вкуснее, чем приготовленную картошку с мясом в русской печи мамой старенькой и ее большие пироги, я ничего не ела в своей жизни, − дочь удивленно приподняла бровь, − может быть, потому что в них присутствовал вкус детства моего? Да… так и есть…
Оля, подперев рукой лицо, внимала моим воспоминаниям.
− Знаешь, − я мысленно вновь вернулась в дом, − дальше в доме были неотапливаемые сенцы-сенки. Это небольшое помещение, перегороженное самодельной стенкой из досок и дверью, под названием кладовка. В кладовке хранились ненужные вещи, хозяйственная утварь… А еще в кладовке висели свиные копченые окорока. Они оставались после долгой, суровой сибирской зимы, не съеденные за зиму. С наступлением ранней весны, когда снег темнел, с ранними проталинками заносили в избу, засаливали в деревянных бочках, заливали крутым соленым раствором со специями, недели две вялили, давая им обсохнуть на весеннем солнышке, а потом коптили в бане, которая топилась по-черному. Развешивали их в бане над каменкой и топили баню до готовности окороков. А летом − придут с работы на обед, дядя ли заглянет по пути из МТМ (машинно-тракторная мастерская) или мама прибежит на обед на час (она уже жила постоянно в Велижанке), отрежут кусочек, да картошечку, да горбушку домашнего хлеба, да молочка из ямки, что на улице − вот и сыты!
Официант прервал меня, положив счет на стол. Но мы не спешили уходить. Я продолжила свой рассказ:
− Здесь же, в сенках в летнее время, да, пожалуй, с наступлением весны, разжигали керогаз (керосиновая горелка-печка), подогревая пищу и себе, и скотине. Там же, в кладовке, хранились деревянные бочки с квашеной капустой, которую засаливали и квасили по осени, добавляя туда морковь, помидоры. А еще кадушка с солеными груздями и укропом. Как удавалось моей маме старенькой так делать соленья − до сих пор для меня остается загадкой. Ешь зимой соленые грузди, а они хрустят на зубах, да с горячей рассыпчатой картошечкой! Все соленья делали в деревянных кадушках (бочках). И вкус был отменным. А пирожки с сушеной, летом, клубникой! Да с молоком! Но вот парное молоко очень не любила, но пила по твердому настоянию своей мамы старенькой.
− А я до сих пор не люблю его, молоко … − сморщив нос, сказала дочь.
Я улыбнулась и продолжила:
− Дом наш был огорожен изгородью незамысловатой, досками, как могли, руки женские, натруженные, − так и мастерили. И знаешь, о нашей семье, в основном женщинах (правда и дядя помогал!) говорили в деревне: «Всякая работа горит в руках у Уваровых − что хозяйство держать, что плетень городить…» Да, хозяйственные постройки для домашнего скота тоже соорудили сами. Все животные жили по отдельности друг от друга. Пристроем к кладовке дома был сарайчик для свиней. В хлеву стояла корова Белянка. У кур, гусей и уток был отдельный загон, у каждого вида птиц. Здесь же, во дворе, ямка-погреб. В нем хранились скоропортящиеся продукты в летний период. За курятником и гусятником был огуречник. Здесь сажали в парниках помидоры, капусту. На грядках из навоза росли огурцы, морковь, свекла, а позднее − маленькие, но такие красные и вкусные арбузы-арбузики, под названием «Огонек». Вся мелочь росла в этом маленьком огородике.
Читать дальше
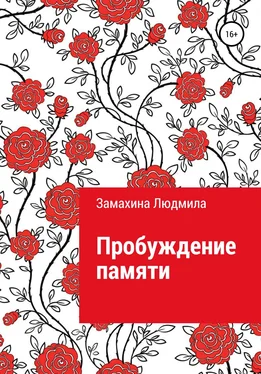
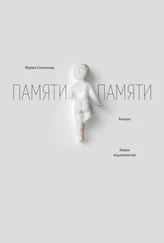
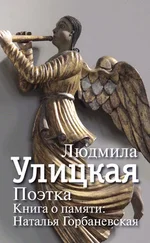
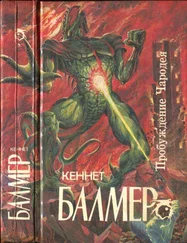
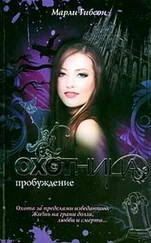


![Станислав Сергеев - Памяти не предав - Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/388335/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred-thumb.webp)