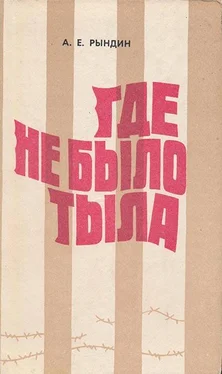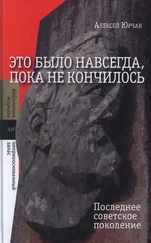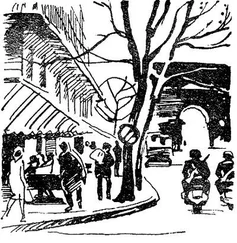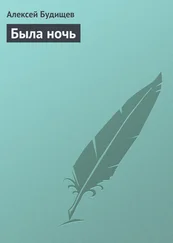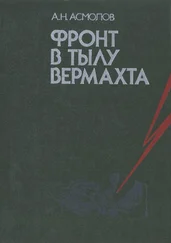Советский народ и весь мир с затаенным дыханием следили за ожесточенным сражением у стен славного Севастополя. «Самоотверженная борьба севастопольцев, — писала 15 июня 1942 года газета «Правда», — это пример героизма для всей Красной Армии, для всего советского народа».
В середине июня 1942 года бои достигли крайнего напряжения. Положение защищавшей город Приморской армии генерала И. Е. Петрова с каждым днем становилось все тяжелее. Войска несли большие потери. Резервы были израсходованы. Не хватало боеприпасов, поэтому бои все чаще переходили в рукопашные схватки. Вечером 30 июня, когда кончились боеприпасы, продовольствие и питьевая вода, защитники города отошли к бухтам Стрелецкая, Камышевая, Казачья и на мыс Херсонес. Эти драматические события подробно описываются в книге А. Е. Рындина.
Незначительным группам севастопольцев удалось через линию фронта уйти в горы, где они продолжали сражаться в партизанских отрядах. Однако большая часть последних защитников города, среди них было много раненых и контуженых, оказалась во. вражеском плену. Среди них находился и раненый Рындин.
Завершилась восьмимесячная оборона черноморской твердыни. Севастопольский гарнизон успешно выполнил поставленную перед ним задачу. Он нанес противнику огромные потери и на длительное время сковал сильную 11‑ю немецко–фашистскую армию генерала Э. фон Манштейна, которая в то время не смогла участвовать в наступлении на южном крыле советско–германского фронта.
Для советских воинов, попавших в фашистский плен, у ворот лагеря, казалось, кончилась всякая надежда не только на продолжение сопротивления фашизму, но и на жизнь. И действительно, многие сотни тысяч советских военнопленных были уничтожены гитлеровскими палачами. Но оставшиеся в живых, как рассказывается в книге, не покорились врагу и, несмотря на невероятно тяжелые условия, продолжали неравную, а подчас отчаянную борьбу.
Книгу А. Е. Рындина о защитниках Севастополя, которые своим массовым героизмом и самопожертвованием обогатили славные боевые традиции советского народа, с пользой прочтут все, кто интересуется событиями незабываемых дней Великой Отечественной войны.
М. СЕМИРЯГА,
доктор исторических наук, профессор.

В одну из темных декабрьских ночей 1941 года от Новороссийского причала отошел теплоход «Абхазия», на котором разместилась тысяча кубанских добровольцев. До полуночи люди осваивались с новой обстановкой. Рейс был особенный! И это ощущали все.
Когда разговоры и голоса моих спутников стихли, уставшие люди заснули, я вышел на палубу. Зимняя ночь была непроницаема. Ни звездочки, ни огонька на далеком берегу.
Вспомнился вызов в крайком партии. В военном отделе сидел А. А. Егоров. Я его знал еще секретарем Темрюкского райкома партии, тогда, когда сам работал в такой же должности в Северском районе. А. А. Егоров был низкорослым, подвижным и веселым человеком.
— Ну, Рындин, идем к товарищу Селезневу, — сказал он, едва я вошел к нему.
Напутственное слово секретаря крайкома Петра Ианнуарьевича Селезнева было коротким.
— В Севастополь надо отвезти тысячу добровольцев–кубанцев. Я вам, дорогие товарищи, скажу — это особенные люди: участники гражданской войны, руководящие товарищи, комсомольцы, беспартийные, интеллигенция… Наши советские патриоты, отозвавшиеся на зов Родины! Так вот, товарищ Рындин, довезешь до Севастополя, сдашь командованию и возвратишься назад.
— А там еще будут добровольцы, — добавил Егоров.
— Это несомненно, — сказал секретарь, — а сейчас поезжай прямо в Абинский лагерь. Людей там военкомат уже подготовил…
Утро выдалось солнечным. Море замерло и будто покрылось голубой тканью. Корабль немного вздрагивал, шел уверенно, быстро. И только теперь мы заметили, что следом за теплоходом, «Абхазия», по обеим сторонам сзади, двигались эсминцы. Это была транспортная охрана. Я обошел все помещения корабля, набитые до отказа добровольцами. Везде шли оживленные разговоры. Люди стояли у перил, смотрели, как у боковин судна струилась прозрачная голубизна воды.
Двое остановились около меня:
— Скоро будет Севастополь? Не нападут ли на корабль вражеские подводные лодки или самолеты?
Корабль шел на юго–запад, и мне подумалось, что он действительно еще не вышел на траверз Севастополя.
Читать дальше