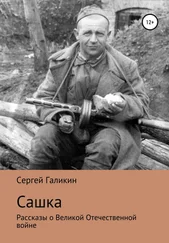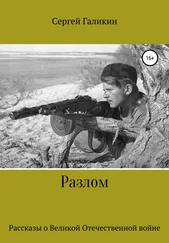Утомленное долгим майским днем солнышко уже скрылось за дальними буграми, пока еще зелеными-зелеными, и трава на этих буграх стала изумрудной, а длинные их тени уже легли наискосок широкого овечьего база. Уже вокруг зацветали старые акации, дурманя томный вечерний воздух пьяными ароматами, гудя в своих кучерявых кронах тысячами пчел…
По экономии, как и всегда вечером, ласково дразня ноздри, расходился придатный запах свежего шулюма, с молодым лучком да при баранинке…
Усталый Матвей плотно закрыл ворота база и, поигрывая кнутом, неспешно шел к столовке. Вдруг из-за деревянного ссыпного амбара ловко выскочила голая бабья рука, сноровисто вцепилась в шиворот его косоворотки и сильно потянула так, что та аж затрещала, а Матвей невольно подался вслед за нею за темный амбарный угол.
Блестящие черные глаза, те самые глаза, которые в последние недели виделись ему и во сне и наяву, те самые глаза, которые томно смотрели в него с голубого неба, те самые глаза, что так сияли при каждой их мимолетной встрече, теперь как-то недобро, холодно взглянули в его лицо, злобно сверкнули, сузились и Груша, презрительно всматриваясь и противно дыша перегаром самогона, визгливо, совсем по-бабьи зашипела, как-то воровски озираясь по сторонам:
– Слышь, безродный… Тут тебя ко мне наша дура… Исайка прилепила… А ты… И повелся… А… Ты мне, безродный, не мил, и… Ну на кой ты мне сдался… Коли… На сердце у меня другой имеется… А?! Не тебе чета, сироте… Другова я люблю! Ясно тебе?! Так што… Ты откажись, понятно тебе? От меня пойди и… Откажись! Не мил ты мне, ясно тебе… Откажись, безродный! Откажись!..
Когда-то, уже очень давно, тут же, на дальней степной кошаре богатого шпанковода Исаева, родила его на самую Радоницу матушка, юная батрачка Мотя, а от кого ей Бог дал красивого кучерявого хлопчика, то она и сама не ведала. Сама-то она, бедняжка, вскоре занемогла да и преставилась Господу, а его вынянчила да козьим молочком выпоила тетка ее, глухая, но добрая старуха Устиновна. Как подрос он малость, стал бегать, шалить, то ведро повалит, то сковородку припрячет, а бабка сердится, бранится, кухарки смеются, подначивают, а Устиновна, когда уже сладу ему дать не могла, только тяжко вздохнет, опустится на скамью да ласково проворчит:
– Ишь, чево удумал… Чертенок безродный…
Так с тех пор да на всю жизнь и приклеилось к нему позорное прозвище «Безродный», а какой же он, ежели разобраться, безродный, ить мать-то была… Тут же, в экономии, и прошли его и детство и юность.. То харчи разносил, то подпаском все бегал, а уж годкам к десяти стали ему доверять и сакманы.
С того самого дня стал он замкнут, молчалив и к женскому полу совсем равнодушен. Было, правда, ходил он одно время, ходил совсем без любви, к одной немолодой солдатке на Козиков хутор, за семь верст, да и та вскоре померла от желтухи.
Ну а Груня вскоре и вовсе пропала, сказывали люди, сбежала она из дальней Исаевской экономии с каким-то богатым калмыком.
Проходили годы, а Матвей так и жил бобылем, жил своей одинокой жизнью, сросся с отарой, весной блеяли, мыкались потерявшие своих ягнят матки, зимой в овечьем тепляке принимал он окот, днями и ночами колотился с выпойчатами, у матерей которых не случалось молока, разносил по кучкам сенцо да водицу, потом помогал поденщикам в стрижке, а летом, до случки, до самых Покровов, когда широкая степь пустела, травы выгорали на безжалостном солнце, он и вовсе уходил с отарой поближе к Манычу, там на низовых займищах и обсохших отмелях овца смачно хрустела молоденьким сладким камышом, лакомилась ядреной овсянницей и пыреем, жирела, набиралась сил на зиму. А Матвей жил в шалаше, ловил руками по глинистым береговым отмелям раков, ставил самодельные сети на сазана…
Шпанковод Исаев накануне и в первый год войны вдруг шибко разбогател на военных поставках, купил громадный трехэтажный дом в Новочеркасске, а экономию свою запустил, забыл, почти и не появлялся. Управляющих менял часто и с каждым разом присылал все хуже и хуже. Все воровитей и воровитей. Лодырей да пьянчуг разных.
И вскоре, не получая почти никакого жалованья, обреченные на полуголодное существование, почти все людишки разбрелись с экономии, кто куда.
Летом семнадцатого года вдруг прикатила на расписанной пароконной тарантайке неимоверно растолстевшая и оттого постаревшая Исайка, с нею двое в синих мундирах, деловито слюнявя короткие толстые пальцы, пересчитала тут же пачки «керенок», да и молча укатила, а овечье стадо почти целиком, под вечер, суровые верховые калмыки угнали на станцию.
Читать дальше