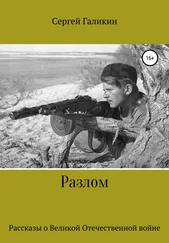А им это нравилось!
Наши немногочисленные беседы с ними всегда протекали в послеобеденное время, когда, в так называемый «тихий час», никто не мешал их воспоминаниям. Они иногда истово спорили между собой, даже слегка ссорились по тем или иным поводам, истово и смешно ругались, забавно коверкая свои библейские имена. Один со злобной гримасой на тщедушном личике кричал:
– Вы теперь неправы, дорогой мой Еська!
А другой отвечал:
– Нет, это Вы ошибаетесь, милейший Яшка! – когда один помнил какое-либо имя или событие так, а другой – эдак, но они все равно каждый раз вдруг успокаивались, как-то незаметно для меня тут же находили одну, общую истину и их мирная беседа легко следовала дальше.
Грациозно и неторопливо текла их беседа, как лениво льется серенький осенний дождик, как течет меж вековых дубов тихая лесная речка из таинственных своих истоков в туманные степные дали времен, незаметно теряясь в мутном будущем. А может, дорогой читатель, не такое уж оно и загадочное, это будущее, если за спиной яркое, чистое, без утайки, без лжи и несправедливости, подчас рожденное в муках стариковского незлобного спора, такое, какое как оно есть на самом деле – прошлое?
Они происходили по матери из старинного польского дворянского рода графов Цыбулевских, впрочем, лишенных каким-то из Александров дворянства из-за участия в Польском восстании, но их отец был одним из тех, самых натуральных, первых, ярких, идейных и самоотверженных, яростных и беспощадных комсомольцев в только что родившейся в невероятно кровавых муках молодой державы нового, доселе невиданного и пугающего весь остальной мир, типа.
Он редко бывал дома, и никто, ни седая еврейка – мать его, из бердичевских местечковых жидиков, ни молодая, только что с институтской скамьи, красавица-жена, никогда не знали наверняка: где он и что с ним. И вернется ли он сегодня к нехитрому ужину, или уже надо ехать искать его по больницам и моргам города. И когда их мать с уже довольно округлившимся животиком, едва робко присевши за обед, тут же в страшных муках тошноты со стоном исчезала в уборной, ее старая свекровь лишь укоризненно качала белой косматой головой и, тяжко вздыхая, хрипло шептала сквозь кривые и желтые от беспрестанного курева зубы:
– Ну куда-а-а… Ты его?.. Куда ведешь… Ой-е-е-е… Ой-е-е-е… Я таки исделаю конец моей жизни… И-и-и-и… – и, опустившись на пол, космачила тонкими пальцами свою седую паклю волос и принималась истово шептать что-то из Торы.
Она же и приняла роды невестки среди октябрьской ненастной ночи, а положивши еще красных от утробного пара близнецов на простынь рядком, задумавшись ненадолго, вдруг с тихой грустью сказала:
– Шолом алейхем! Ты, дите – шел первым, будешь – таки, Иаков. А ты, малюхарочка – будь же ты Иосиф .
Так, сама того не понимая, старая еврейка в тот самый миг вложила в их будущее глубокий сакральный смысл, ибо их дальнейшая жизнь стала после этого складываться именно так, как и это изложено в Ветхом Завете: Иаков родил Иосифа, Иосиф, однажды преданный родными братьями, возвысился в чужой стране и в конце концов спас и отца своего, и нехороших своих братьев, явив тем самым всему грешному миру яркий образец чистого и беззаветного человеческого Прощения во имя своей крови, во имя своей любви!
Набожная мать истового комсомольца, их бабка, уже давно к тому времени умерла, а его самого партия перебросила в Минск, где близнецы, под присмотром няни из финских чухонок безбедно выросли в семье видного партработника. В тридцать седьмом его не стало, ибо ненасытный молох революции, обычно пожирающей своих детей, тогда не миновал даже самых преданных, беспощадных, яростных и самоотверженных, а его уже взрослых сынов – Якова и Иосифа вскоре призвали в Красную Армию. Дети врага народа, да-да, но ведь сын, как справедливо заявил тогдашний наш Царь, сам испугавшись размаха репрессий, за отца не в ответе…
И они попали служить, как водится, в одну часть, неподалеку от дома, в Прибалтике. И стали хорошими красноармейцами, классными стрелками и спортсменами. А потом демобилизовались, вернувшись в родной Минск.
И когда началась та, незнаменитая, по словам известного поэта, война, война с белофиннами, подло вдруг напавшими на молодую Советскую страну, и надо было сделать так, чтобы весь мир увидел и поверил, что это вовсе не Красная Армия, а передовой карело-финский пролетариат штурмует пресловутую «Линию Маннергейма», братьям, которые к тому времени только что восстановились в институте, сказали в парткоме тихо, но по-партийному прямо:
Читать дальше