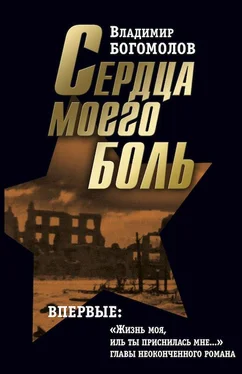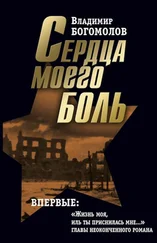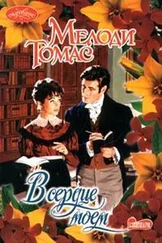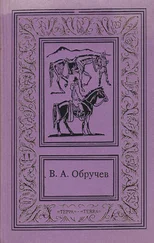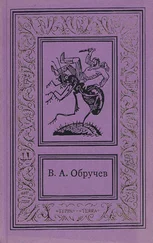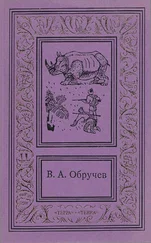Все это время я занимался самообразованием: очень много читал, в том числе и о войне, меня коробило от множества нелепейших несуразностей, особенно в художественной литературе, полагаю, именно это побудило написать повесть «Иван».
«…Зиму 1957 года я прожил за городом, в холодном, без фундамента доме — в Мозжинке, поселке научных работников. Дом не был приспособлен для постоянной жизни в зимнее время года. Поэтому еще в сентябре я отремонтировал печь и заготовил уголь. Глубокой осенью неожиданно ударили морозы до –30 оС. Тут я убедился, что тепло в доме не держится: уголь не горел, печь надо было топить круглые сутки. Самое ужасное — не было завалинки, дом продувало насквозь, и пришлось его со всех сторон закидать снегом до уровня окон. Донимал собачий холод. Работал за столом тепло одетый, в валенках, замерзали руки; чтобы согреться, выбегал во двор разбрасывать снег. Но работалось хорошо, и в декабре закончил рассказ «Иван».
Отвечая в последующем на многие интересующие читателей и критиков вопросы, В.О. Богомолов пояснял [18] Эти сведения изложены в письме Л. Ковальчук, в беседе с М.Б. Лоскутниковой, ответах на анкету журнала «Вопросы литературы». Полные тексты представлены в разделе «Из личного архива». — Прим. Р.Г.
:
«Рассказ «Иван» — это моя реакция на невежественные публикации о войсковой разведке; о ней писали очень неквалифицированно. Меня всегда коробило, что писали о войне люди, на ней не бывшие.
…«Иван» — произведение вовсе не документальное. Во время войны мне приходилось встречаться с десятками подобных мальчишек, однако Ивана Буслова, как такового, в природе не существовало. С одной стороны — это рассказ о трагической судьбе мальчика на войне, с другой — профессионально точное описание «зеленой тропы», переброски через линию фронта разведчика, юного героя повести.
…Главное для меня в «Иване» — это гражданственность, неприятие человеком (в данном случае двенадцатилетним мальчиком) зла и несправедливости, изображение ненависти ребенка к немецким захватчикам и его самого активного противодействия.
…Мальчик в «Иване» не объект жалости. Это мальчик-патриот, Воин и Гражданин, настолько ожесточенный, настолько ненавидящий захватчиков, что удержать его от участия в смертельной борьбе невозможно. Мужественные, суровые люди относятся к нему с любовью и нежностью не оттого, что он потерял мать, сестренку, отца, а потому, что, на каждом шагу рискуя жизнью, он умудряется делать больше, чем это удается взрослым разведчикам.
…Указание точных дат и места действия, «цитирование» немецкого документа — это всего-навсего художественный прием для того, чтобы убедить читателя в достоверности происходящего. После опубликования «Ивана» я впоследствии получил по запросу из Берлинского архива (через Леонарда Кошута, главного редактора издательства «Фольк унд Вельт». — Р. Г. ) копии с реально существовавших подобных документов.
…Что касается образа Гальцева в рассказе, как писали, что в нем автор изобразил лирическое «я», — безусловно, в Гальцеве есть что-тоот автора, хотя в войну я был офицером разведки и свое «я», думается, поделил между Холиным и Гальцевым».
В очерке «Автор о себе» В.О. Богомолов рассказал и историю опубликования «Ивана»:
«4 апреля 1958 года я отправил почтой по экземпляру рукописи в редакции журналов «Юность» и «Знамя», ровно через месяц в один день мне сообщили о решении этих редакций опубликовать эту повесть. В «Знамени», чтобы опередить «Юность», вынули из корректуры десятки страниц, и досылом «Иван» был опубликован в июньском номере журнала. Это оказалось неожиданностью — перед тем «Ивана» через третьих лиц показали опытнейшему старшему редактору издательства «Художественная литература», кандидату наук, и он на листе бумаги написал сугубо отрицательный отзыв. Он обнаружил в «Иване» «влияние Ремарка, Хемингуэя и Олдингтона» и вчинил мне модное тогда обвинение «в окопной правде». Приговор его был безапелляционным: «Эту повесть или рассказ никто и никогда не напечатает». Этот вердикт по сей день хранится у меня в кабинете, рядом с полками, где хранятся 215 публикаций переведенного более чем на сорок языков «Ивана».
Но повесть был готов опубликовать и журнал «Юность». У меня сохранилась рукопись «Ивана» с пометками В. П. Катаева [19] Валентин Петрович Катаев, известный писатель, тогда был главным редактором журнала «Юность». — Прим. Р.Г.
.
Читать дальше