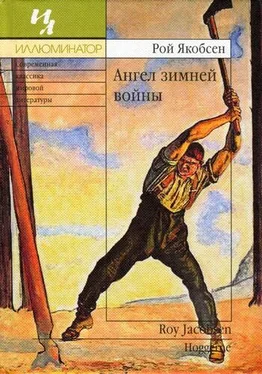А вот про моих русских товарищей ни слуху ни духу и дела никому нет, наконец мне рассказывают о лагере для пленных, это в Хулконниеми, но туда мне пока не дойти, а выспрашивать и выискивать до бесконечности я тоже не могу, но вдруг, по дороге к себе в лазарет, мне встречается человек, которого я не чаял увидеть вновь, — толмач Николай. Он стоит и беседует с финским офицером ровно так, как он делал на моих глазах раньше, пока не рухнул его русский проект, — как свой здесь. Хотя это не так. И я решаю держаться от него подальше.
Но как бы не так! Мы сталкиваемся снова уже на следующий день, и выясняется, что Николай и сам меня знать не желает; мы обходим друг дружку стороной, отвернувшись, это обоюдная стратегия, наш молчаливый сговор, он продолжает беседу с финским офицером, я ковыляю себе дальше, туда, куда меня все время тянуло, но не было сил дойти, в дом Луукаса и Роозы, и с болью вижу, что его разбило прямым попаданием, ровно в кухню, наверняка всего через несколько часов после нашего ухода.
Я вхожу в дом, берусь за насос и чувствую, что его лучше не шевелить, в доме не осталось ни целой чашки в шкафу, ни стула, ни блюдца, часы висят на честном слове, стекло разбито, большая стрелка замерла между двумя и тремя. Я озираюсь в поисках Микки и не нахожу его, и дом без него кажется еще более разрушенным.
Но я обхожу остальные комнаты, кровати стоят в том виде, в каком мы их оставили, жалкое зрелище, особенно потому, что я не могу вспомнить, что мы себе думали, когда убегали из дома и считали, что прорвемся. Мне нужно сесть. Я сажусь на двуспальную кровать Луукаса и Роозы, в которой спали Суслов и Михаил, и замечаю на столике очешник, руки мои открывают его, а там бумажка с несколькими непонятными словами по-русски, я разбираю слово «спасибо» и подпись: Александр Суслов, и уже не могу встать, а откидываюсь на грязные подушки и натягиваю на себя ледяное одеяло и чувствую запах, от которого в голове у меня рождается вопрос: почему человек не осознает, какая он развалина, пока процесс разрушения продолжается, почему человек считает себя живым даже почти за гранью смерти; я сам из силача превратился в такого слабака, что с трудом дохожу из лазарета какие-то сотни метров сюда, где я теперь валяюсь с закрытыми глазами, сжимая в руке очешник, небольшой предмет, совершенно меня доконавший, опрокинувший на лопатки, что тоже нужно, хотя и требует времени, особенно много уходит его на сны.
Когда я сумел встать, я уже согрелся, был теплый, и разрушения на кухне не показались мне такими трагическими — нужно сделать новую стену, от обшивки остались щепы, на дверях нет филенки, хлопающие рамы на почти вырванных петлях, а еще починить стол и стулья, вставить новые стекла, и вон из половиц торчат один к одному гвозди, как железная трава. Я отыскиваю в куче инструмента на улице пассатижи и выдергиваю гвозди, потом прибираюсь, выкидываю то, что уже не починишь, в том числе стул, на котором я провел столько часов, и, по-моему, становится лучше, чем было, словно начало новой жизни.
Другие комнаты пострадали меньше, крыша цела по всему дому, и печи тоже. Напоследок я беру в руки молоток и прибиваю на место половицы в прихожей, а в голове складывается план, не думаю, чтобы хоть один день в жизни у меня не было плана, всякий человек как проснется, непременно должен знать, что делать, но мне придется включить в свой план и этого несносного толмача.
Пошли разговоры о том, что как только дорога на восток откроется, раненых эвакуируют, если будет транспорт, он ходил челноком вдоль всего неспокойного фронта, и я лежал и думал об этом, не спалось, посреди ночи я встал, сложил одежду в мешок, крадучись выбрался из лазарета и задолго до рассвета уже разбирал на материал наполовину сгоревший хлев Луукаса, добывая вагонку, доски, струганые панели, которыми он обшил свой хлев. Вооружившись попорченным огнем инструментом, я отчаянно взялся за внешнюю стену кухни. И на это тоже никто внимания не обратил. Но к полудню я проголодался и вернулся в лазарет — здесь мое отсутствие давно заметили. Я успокоил их, сказав, что здоров и бодр, сестрички сердито твердили, что ничего подобного, зато я получил какой хотел еды, медленно, на русский манер, поел, потом дал себя перевязать, но сделал вид, что не слышу причитаний сестер, желавших немедленно уложить меня в постель.
К вечеру я утеплил всю наружную стену и перешел к обшивке внутри, дело шло не без трудностей, получалось слишком много швов и латок, некрасиво. Ночью я затопил печь: сквозь трещину в трубе пополз дым, и я собрался в хлев за варом, замазать ее, как тут за мной пришли рядовой с ружьем и санитар, который последним обрабатывал мои раны.
Читать дальше