Кому довелось пережить такое, как мне с Любой в достопамятный вечер перед избушкой среди болот тот вправе считать, что достаточно прожил на свете. Тот думает: увидеть Неаполь и умереть. А потом ему приходит в голову, что мало кто из приехавших в Неаполь с этой мыслью и на самом деле умер. Что великие гении только тогда и расцветали особенно пышным цветом, когда увидели Неаполь. Лично я видел Неаполь. Ты знаешь, мне всегда трудно говорить. Но когда я увидел Неаполь, мне стало легко. Я сказал: ты мне устроила представление! И какое! Я расцвел, когда смог вот так свободно заговорить. И я совсем не сознавал, что говорю по-немецки. Я хотел от всей души поблагодарить ее за то, что она открыла мне своей игрой. Что доброе чувство, которое мы испытываем друг к другу, не должно погибнуть из-за двух убитых в яме. И не надо просить у мертвых прощения за то, что сам ты еще живой. А у живых — за любовь. За такое откровение благодарность от всей души была самым малым. Она дала мне это понять обобщенно. Недаром же в театре всегда и все разыгрывается обобщенно, в расширенном масштабе. Даже если потом производит вполне правдоподобное впечатление. Иначе это был бы никакой не театр. Повседневная жизнь не должна этим смущаться. Даже напротив. Она должна радоваться тому, что есть театр. Не то мы из-за деревьев не увидели бы леса. Точно и справедливо выразить это соотношение, сказав: ну и представление ты мне устроила, — я сумел, как уже говорилось, без особого труда после того, как увидел Неаполь.
Я замечаю, ты все время помнишь мой призыв к сдержанности.
Тысяча чертей, да будь я хоть немного сдержанней, чем надо, мне б никогда этого не изведать.
Как же разговаривает человек, которому сперва казалось, будто он проглотил орган, а чуть погодя смерть засовывает свой палец ему в глотку, вызывая рвоту? Орган вместе с прелюдией. Человек, который чуть погодя снова увидел Неаполь и отпраздновал воскресение? Как же он говорит, этот человек? Он практически и говорить-то не может, но продолжает говорить. Он говорит короткими словами. Все так огромно, что никого ни в чем больше не надо убеждать. Никого, с кем он за этот день семикратно прошел огонь, воду и медные трубы. Никого, кто поутру назвал его идиотом, кто вечером потрепал его по волосам и сказал: мы не капут. Кто сказал: где-то растет яблоня. С таким можно есть одной ложкой. Выскребывая стенки горшка. Доедая подгоревшие крупинки. Чтоб они расходились на языке. Чьи сырые носки можно повесить сушиться на колыбель. Кому говоришь: сними сапоги. Мы долго шли. Я выстираю твои портянки. Кому даешь портянки без тени смущения. У кого вырываешь портянки из рук, если он стесняется, что от них пахнет, потому что мы долго шли вместе. И теперь он понимает, что нужна всего лишь минута, чтобы разобраться в нем и в себе и во всех прочих обстоятельствах. Тогда нужно ему доставить радость. Головешкой из очага он проделывает окно в горбыле лишенной окон избушки. Большое окно без занавесок. Чтобы ночь заглядывала к нам, когда мы будем отходить ко сну. И день, когда мы проснемся на рассвете. Кто бы мог ожидать от него столько фантазии и столько ловкости! Надо спеть ему песню, которая все равно останется не допетой в шорохах и вздохах могучей игры.
Если нежданно гроза налетит,
Это влюбленных не разлучит.
Горе, тревога, угрозы, беда
Нашу любовь закрепят навсегда.
Вернувшись, она слушает, глядя мне в лицо. Она говорит, что знает старые пески. Она идет мне навстречу. Мы расцвели в Неаполе пышным цветом. Я говорю ей: какая ты красивая.
В наш первый раз ты и мне сказал то же самое. Я была рефреном твоей первой любви.
Нет, ты была второй строфой той же песни. А в ней всего и есть две строфы. На большее у меня ума не хватило. А если я порой и присочинял кой-какие строчки, это простительно.
Ранним утром, когда Бенно Хельригель проснулся, потому что озяб, солнце теплым светом заливало через большое окно его тело. Люба встала раньше. Он позвал ее. Она где-то спряталась. Он поискал ее. Уверенный, что найдет с закрытыми глазами. Но не нашел. Нигде. Выглянул, поискал кругом, тоже не нашел. В люльке лежали желтые ветки. Его фуражка. И запас про черный день со всем, что к нему относится. Ее оружие. А двух других автоматов не было. Перед дверью стояла тачка из торфяника. На ней — лопата. Стол был накрыт тем немногим, чего должно бы хватить на этот день. Догорал огонь. Она подложила в него торф. Хельригель видел, но отказывался понимать. Он так все оглядывал, словно она пошла по ягоды, либо за хлебом. В простоте душевной он решил, что где есть торфоразработки, есть к булочник. А тачка и лопата сказали ему, чтоб он не бездельничал, пока она ходит. Чтоб занялся чем-нибудь полезным. Его это вполне устраивало, совсем по-домашнему: Чего хочет твоя девушка, пусть будет для тебя как божья заповедь. И поначалу, и впредь. Покуда она не захочет того, чего не хочешь ты.
Читать дальше
![Макс Шульц Летчица, или конец тайной легенды [Повесть] обложка книги](/books/409424/maks-shulc-letchica-ili-konec-tajnoj-legendy-pove-cover.webp)
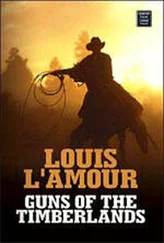
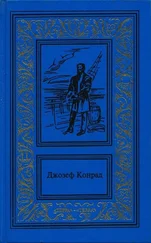



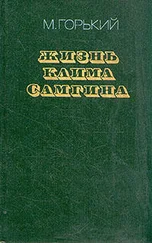
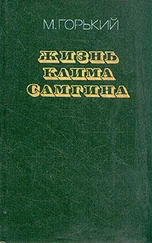
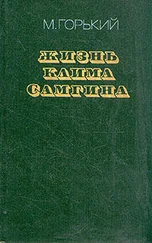
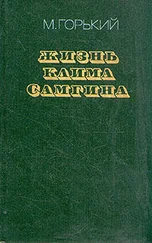
![Макс Шульц - Солдат и женщина [Повесть]](/books/409337/maks-shulc-soldat-i-zhenchina-povest-thumb.webp)

