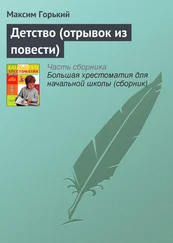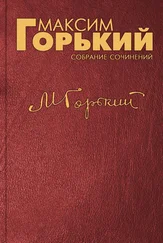Девочки резвились. Они кувыркались на барьере. Для целого закута досок не хватило. Но женщина и не хотела, чтоб был целый закут. Не то в комнате стало бы слишком темно. И корова чувствовала бы себя слишком одиноко. А из-за этого нервная корова сразу снижает удой. Пришлось ограничиться барьером. Поперечная доска, три четверти метра над землей. Узкий вход — для людей. Смотри только, женщина, чтобы коровий зад не оказался над барьером, чтоб дерьмо не падало в чистую горницу. Женщина засмеялась. Ей-богу, засмеялась. Слово «дерьмо» понимают все люди.
Женщина положила шинель на доски. Можешь спать здесь. Он этого ожидал. Снова провести ночь под нормальной крышей, возле теплой печки! Снова разуться на ночь. Помыть ноги перед тем, как лечь. После полуночи, когда станет холодно, встать, подбросить в топку несколько полешек. И снова лечь.
Пока он мыл ноги, появилась седая Марфа. Все осмотрела. Выразила удовлетворение. Подивилась на трехэтажную кровать. Порадовалась вместе с детьми, которые уже все лежали на своих местах. Еще раз все осмотрела. Поняла смысл разостланной на досках шинели. Подняла шинель, бросила ее Рёдеру прямо под вымытые ноги. И мать девочек не заступилась за него ни единым словом. Мир полон черной неблагодарности. Мой топор, моя пила. Прощайте! Бестия уходит. Все-таки мой путь самый длинный. Ах, звезды-огоньки… Порой приблизятся они, порой так далеки. Дорога от деревни до фольварка шла прямиком через холм, незаметную высотку, где в свое время солдаты… где сын Рёдера ушел в никуда. Самый длинный путь Рёдера тоже вел в никуда. Ночь была темная. Сырой холодный воздух встретил его и легкий туман. Даже русская зима рано или поздно начинает истекать слезами. На холме пляшет блуждающий огонек. Цель ясна! Огонь! Когда он попадал в дорожные колеи, под его ногой хрустел тонкий ледок. Счастье будто стекло: раз — и вдребезги.
Тогда, в метель, с дороги ничего нельзя было разглядеть. Сегодня, идя в деревню за груженной досками фурой, он ворчал: плетешься, как за гробом. Когда они только ехали туда. Теперь, подойдя вплотную к холму, он вспомнил свою кощунственную воркотню и испугался. Да как же можно, потеряв несколько досок, забыть из-за этого про единственного сына? Испуг пронзил его, когда он искал то самое место. Оно должно быть где-то у подножья холма, на той стороне, что дальше от деревни. Он вовсе не рассчитывал найти его у самой дороги. На подходе к холму ему чудилось, будто он ищет свою команду и в своих поисках уходит от этого места все дальше и дальше. И вдруг он снова ощутил кожей ледяное прикосновение пистолета. И увидел: могила была в полном порядке. Ровный четырехугольник, обложенный мерзлыми комьями земли. Отмеченный в головах прямым березовым суком. Засохшее дерево, где вместо кроны — немецкая стальная каска. Каска висела косо, открывая свое нутро. Ему очень хотелось перевесить каску прямо, но Марфа безо всякого внимания прошагала мимо, и страх перед этой женщиной удержал его. Даже не страх, а просто ее присутствие.
Вниз с холма идти тяжелей. Слабое перемигивание звезд уходит выше в мировое пространство, черные тени на земле сгущаются. Человек угодил в водоворот. То место, словно водоворот, утягивало его на дно. И он остановился перед ним, обнажив голову. В руках — шапка, у ног — могила сына. Для нас, сынок, не сыщешь здесь ни единого цветочка. В этих хатах вымерла вся зелень. У нашей мамы что-нибудь всю зиму зеленело на подоконнике. Алоэ, герань, фикус. Плющ в подвешенном к оконному переплету горшке. Здесь нет окон, нет подоконников, нет места для зимних цветов. А даже где есть окна, все равно не хватает тепла. Люди и сами застыли в этой стуже. Придет весна, настанет лето, для нас лишь горе расцветет. Потому как в деревне было принято соответствующее решение. И единственный голос, поданный против, должен будет подчиниться общему решению. Дрозд смеется, умирая. Когда настанут холода. Давай держаться вместе, мой мальчик. Сорок лет — это в наше время более чем достаточно. Эвакуацией ведает сам господь бог.
Вот в облике дежурного офицера шагает он из казармы в казарму и покрикивает на людей: «Эй вы, сони, засони, вставайте». Только и есть у него радости. Для нашего брата больше ничего не припасено. И это нам уже давным-давно знакомо. Можешь не принуждать себя, боже милосердный. Подсоби мне самую малость. Нож торчит у меня в голенище. Подтолкни меня на этом заветном месте. Тогда я и сам упаду ничком. Когда Радуга Франц закололся, потому что его двор пошел с молотка, он накануне напился в трактире и запел:
Читать дальше
![Макс Шульц Солдат и женщина [Повесть] обложка книги](/books/409337/maks-shulc-soldat-i-zhenchina-povest-cover.webp)




![Макс Шульц - Летчица, или конец тайной легенды [Повесть]](/books/409424/maks-shulc-letchica-ili-konec-tajnoj-legendy-pove-thumb.webp)