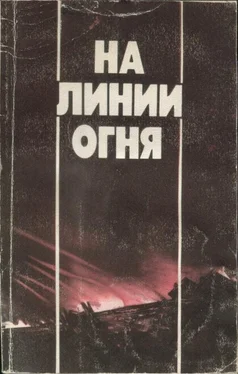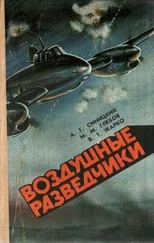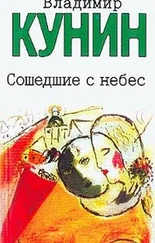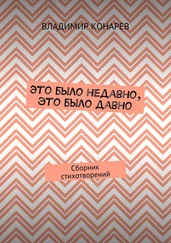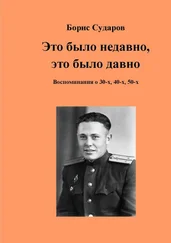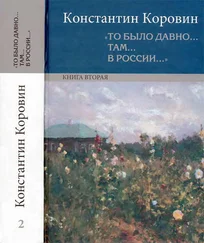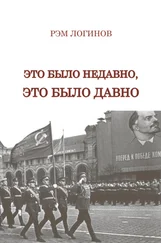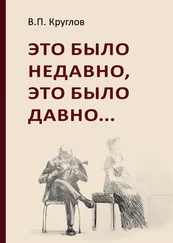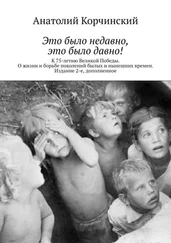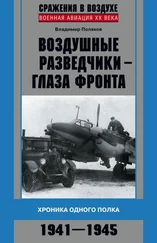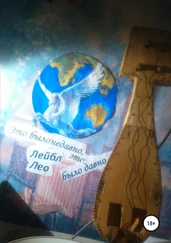Впоследствии Булгаков выпустил в свет и другие книги, посвященные Л. Н. Толстому, его близким и друзьям. До сих пор у меня хранится неопубликованная драма в пяти действиях «В кругу противоречий», в которой в художественной форме описываются трагические события, разыгравшиеся в семье писателя в 1910 году, рукопись книги «В споре с Толстым» и другие.
После смерти Льва Николаевича отец несколько лет работал над описанием яснополянской библиотеки, состоящей из 22 тысяч книг. Первый том этого большого научного труда вышел в свет лишь в 1958 году в издательстве «Советская Россия».
В 1914 году отец, обвиненный в составлении и распространении воззвания против войны, был арестован и провел больше года в тульской тюрьме. А воззвание, разосланное им в разные газеты и журналы, вышло в свет только в мае 1917 года в журнале «Жизнь для всех». В это время Булгаков работает над редактурой «Серии сочинений Л. Н. Толстого, запрещенных цензурой». В 1920 году он вместе с А. П. Сергеенко редактирует журнал «Истинная свобода».
В период с 1916 по 1923 год отец был одним из организаторов и первым хранителем двух толстовских музеев в Москве. По его инициативе в 1921 году была создана знаменитая «стальная комната» — хранилище рукописного наследия Льва Николаевича.
В 1923 году отец был выслан Ягодой за пределы СССР. Вместе с семьей он выезжает в Чехословакию, где продолжает литературную деятельность. В 1924 году в сборнике «На чужой стороне» (Прага) были опубликованы дополнения к яснополянскому дневнику, написаны воспоминания о Февральской революции («Революция на автомобилях»), книги «Толстой-моралист», «Памяти доктора Д. Маковицкого» (посвященная словацкому другу и личному врачу Л. Н. Толстого), «В осиротелой Ясной Поляне», «Русское искусство за рубежом» и другие. К этому периоду относится его знакомство и дружба с Мариной Цветаевой, с которой он потом состоял в переписке вплоть до ее отъезда в СССР.
С лекциями о Толстом он выступает не только в Чехословакии, но и выезжает в Швейцарию, Германию, Австрию, Болгарию, Югославию, Францию, Англию. И повсюду, где бывает, собирает различные материалы о Толстом, а затем пересылает их в музей Л. Н. Толстого в Москву.
Встречаясь в разных странах со многими деятелями культуры, в том числе с художниками, писателями (например, с Буниным, Куприным), учеными, по разным причинам выехавшими из России, он собирает предметы русской старины, рукописи и книги, картины, фотографии с тем, чтобы образовавшуюся коллекцию экспонировать в организованном им в 1934 году в местечке Збраслав под Прагой Русском культурно-историческом музее, а затем, когда представится возможность, вывезти все эти вещи на Родину. В музее имелись работы таких значительных мастеров, как И. Е. Репин, А. Н. Бенуа, И. Я. Билибин, М. В. Добужинский, Б. Д. Григорьев, К. А. Коровин, Н. К. Рерих. В 1947 году экспозиция музея как национальное достояние была вывезена в Советский Союз. Более 150 картин и 25 ящиков других материалов были распределены между Третьяковской галереей, Историческим музеем в Москве, Центральным музеем Октябрьской революции и Театральным музеем имени А. А. Бахрушина. Кстати, в последнем я видела костюм Мефистофеля, который подарил отцу Ф. И. Шаляпин и который я помню с детства.
Во время пребывания за границей отец активно участвовал в антивоенном движении, был членом совета «Интернационала противников войны». В этот период встречался с Р. Ролланом, Р. Тагором, чьи фотографии с автографами хранятся у меня до сих пор, переписывался со знаменитым автором теории относительности А. Эйнштейном.
Живя за границей, вращаясь постоянно в кругах белой эмиграции, отец тем не менее сохранил советское гражданство, хотя ему не раз предлагали подданство Чехословацкой Республики и даже переезд в США. В годы оккупации Чехословакии фашистами отца дважды арестовывали. Была арестована и моя старшая сестра Татьяна — за участие в подпольной антифашистской организации. Оба попали в печально известную пражскую тюрьму Панкрац, занимавшую в городе целый квартал. В то же время там томился Юлиус Фучик и его связная Лида Плаха, с которой сестра моя оказалась в одной камере. Через несколько месяцев Татьяну отправили в женский концлагерь смерти Равенсбрюк, а отца в лагерь для интернированных советских граждан Вюльцбург у Вайссенбурга.
Режим здесь был несколько мягче, чем в концлагерях типа Дахау или Майданек. Но стоило заключенному в чем-то «провиниться» перед фашистским начальством крепости, в которой находился лагерь, его тут же отправляли уже в «настоящий» концлагерь.
Читать дальше