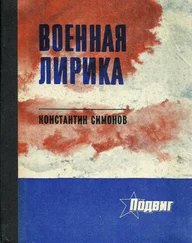Оглядев комнату и секунду поколебавшись, Гурский лег на ничем не застеленную парусиновую раскладушку, положив под голову полевую сумку, накрытую вынутым из кармана носовым платком. Поерзав щекой и полусонно пробормотав «жест-тковато!», он и в самом деле через минуту уже спал, прерывисто похрапывая.
«Еще сегодня утром был в Москве», – подумал о нем Лопатин и, мысленно обругав себя за то, что не решился спросить, видел ли Гурский еще раз за эти дни там, в Москве, Нику, вышел на двор.
Небо было чистое, в звездах.
«Если не сядем и не заночуем где-нибудь по дороге из-за испортившейся погоды, завтра же буду в Москве и увижу ее», – подумал Лопатин, удивляясь неправдоподобию того, что он еще вчера утром вместе с Чижовым стоял там на дороге, у сгоревших танков, около стонавшего, не приходя в сознание, танкиста с оторванной ступней, а завтра днем может оказаться в Москве…
Когда «дуглас» поднялся в воздух, Лопатин еще с минуту видел стоявший внизу «виллис». Василий Иванович сидел за рулем, а Гурский, стоя в «виллисе», прощально махал над головой пилоткой. По дороге на аэродром он сказал Лопатину, что когда приедет к их бывшему редактору, то, кроме обмундирования, выклянчит какую-нибудь фуражечку пощеголеватей, а то при своей рыжей шевелюре, очках, да еще в этой пилотке, сам себе напоминает пленного фрица.
– Черта с два ты у него что-нибудь выклянчишь сверх положенного по закону. Разве что отдаст собственное запасное обмундирование. Если оно у него есть.
– Вот и п-прекрасно. А заодно пусть п-произведет меня в генерал-майоры. П-представь себе, как я буду хорош в ламп-пасах!
Отвернувшись от иллюминатора, в который уже ничего не было видно, Лопатин улыбнулся своему воспоминанию о Гурском. Странно, когда вот так, на пятом десятке, привязываешься к человеку и совсем другого образа жизни, чем твой, и совсем другого поколения. Хотя война, как и всюду, так перепутала в их редакции поколения и так свела всех на «ты», что и сам не поймешь, к какому поколению принадлежишь…
Как только легли на курс, из кабины летчиков вышел стрелок-радист и, поднявшись по лесенке, сел на свой насест; как и во многих других «дугласах», в этом посредине фюзеляжа наверху был вставлен плексигласовый колпак с пулеметной турелью для наблюдения за воздухом и самозащиты. Колпаки эти, придумали в первые годы войны, когда в воздухе господствовали немцы, но многие летчики их не любили – не только теперь, когда все изменилось, но и раньше считали, что овчинка не стоит выделки: торчавший над самолетом колпак срезал скорость, и это иногда обходилось себе дороже.
Прикинув в уме, сколько ж они с этим колпаком пролетят до Москвы, Лопатин подошел к стрелку-радисту проверить.
– Не знаю, – сказал стрелок-радист, – мы еще в Минске присядем.
«Значит, не прямо», – с досадой подумал Лопатин, уже прикинувший, что они пролетят без посадки самое большее часа четыре с половиной, будут в Москве рано и если он сразу застанет Нику у Зинаиды Антоновны, то увидит ее еще до обеда, для которого заботами Василия Ивановича у него было кое-что припасено и в чемодане, и в вещевом мешке. «Наверно, будем брать еще пассажиров», – подумал он.
Брать их было куда. На тянувшихся вдоль фюзеляжа с обеих сторон узких железных скамейках сидело всего девять человек.
«Сколько же простоим в Минске и когда полетим в Москву? И сразу ли застану ее у Зинаиды Антоновны? – снова подумал Лопатин о Нике. – И сколько она пробудет еще там, в Москве, если сказала Гурскому, что у нее всего две недели? Выходит, только два дня. А вдруг у нее что-то изменилось и она уехала, не дождавшись? Гурский сегодня утром рассказал, что она каждый день звонила ему в редакцию и он объяснял ей, что вызов – вызовом, а корреспондента на фронте даже и по такой телеграмме иногда с собаками не разыщешь. Но это объяснял Гурский, а ей самой вполне могло прийти в голову гораздо худшее».
Он вспомнил позапрошлую ночь. Его так перетряхнуло, что неизвестно, как там в будущем, а сейчас хотелось побыть подальше от войны. И подальше, и подольше.
Бывает же так: весной, когда ранили, не испугался, не успел. А сейчас, когда остался цел, задним числом страшно. И непонятно – что писать об этом рейде.
«Вот когда она уедет обратно в Ташкент, – тогда и напишу. А может, не уедет? Но как она может не уехать, если там мальчик? Не могла же она сразу приехать с ним, значит, на кого-то оставила. Не хочу думать об этом, уедет – не уедет, мальчик… Когда увидимся с ней, тогда и будем думать, а сейчас – бессмысленно, потому что все равно ничего не способен без нее решить», – с ожесточением подумал он и, прислонившись к переборке – не спиной, которая все-таки болела, а левым плечом – так было удобней, – вытащил из полевой сумки тетрадь и карандаш.
Читать дальше