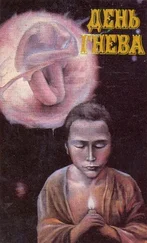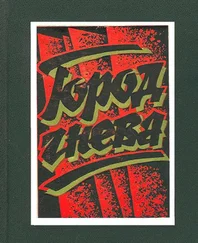В тылу врага громите беспощадно
Дома, вокзалы, рельсы, поезда.
Запрячьте хлеб, сжигайте склады,
Взрывайте танки — и тогда
Покончим с Гитлером кровавым
Ударом с тыла и ударом в лоб,
Мы с двух сторон скелет его раздавим,
Мы с двух сторон врагу готовим гроб…
Вставайте все...
Очередную строку прервал знакомый лязг тюремного ключа. Сташенко привычно повернулся к двери, готовясь принять из рук дежурного миску с баландой, но в камеру пошли незнакомые ему высшие чины в мундирах с аксельбантами.
— Сташенко... Василий Иванович... год рождения... Переводчик коротко перевел, что по приговору особого суда Сташенко Василий Иванович за сопротивление германским властям и организацию партизанских банд будет подвергнут смертной казни.
Военные торопились. В руках прокурора была пухлая папка. Сташенко подумал, что им придется обойти сегодня еще немало камер.
— Понятно? — спросил переводчик. Сташенко кивнул.
Снова со звоном щелкнул ключ в скважине. Сколько же остается времени? Сегодня ночью конец? Очень возможно...
Он прочитал только что написанное им на стене и усмехнулся. Строки как бы потускнели и не приносили радости. Совсем не то, совсем...
Царапал гвоздем на стене:
«Товарищи, тюрьма наполнена провокаторами... распространяются нелепые выдумки о действии уколов. Все это проделки агентов гестапо. Держитесь, не сгибайтесь, Победа все равно не за горами...»
Удастся ли передать все это живым?
Их повезли по Красной улице вверх.
В крытом грузовике было человек пятнадцать. Увидев Люду, Сташенко посадил ее возле, обнял и всю дорогу согревал худенькое, дрожащее тельце. Он проговорил только: «И тебя... и тебя, изверги», — на что Люда почти весело ответила: «Я не боюсь, дядя Вася, ей-богу, не боюсь». И всю дорогу по ее щекам текли слезы.
Все были крайне измучены. Отец Люды, до недавнего времени весьма рыхлый человек, исхудал до неузнаваемости. Он все приговаривал: «Ну что ж, попал в катастрофу. Бывает и такое в жизни, бывает. Обремизился. Непоправимо». Здесь были и Чумак с товарищами, и некоторые незнакомые.
Чумак едва держался на ногах. В машину его втаскивали свои же. Сташенко уложил его рядом и всё время гладил волосы. Однажды только Чумак сказал:
— Знаешь, о чем я думаю? В следующий раз, если придется, будем по-другому. Наивненькими были... Разве так готовятся? Эх...
— В следующий раз, брат, не дойдем мы, после нас люди кое-что учтут. Надо бы только оставить что-нибудь нашим. Так, говорят, делается.
— А я уже выбросил записку. Найдут если, прочитают, передадут. А не найдут — все равно узнают. Люди доскажут.
Никифору, который тоже находился в машине, Сташенко сказал:
— Ты меня извини, Никифор, за все. Не думал, что так получится. И вы, Михаил Андреевич, извините.
— У нее извинения проси, — ответил Глушко. — Я свое прожил. Худо ли, хорошо ли, а прожил. А она ни черта не жила, а так...
— А мне не надо извинений, дядя Вася. Я вместе со всеми...
Никифор молчал. Прощал или не прощал он своему напарнику по зажигалкам то, что вот нежданно-негаданно оказался среди тех, кому отпущены считанные минуты, так и не узнал Сташенко. Он услышал только хриплое его дыхание и странные слова:
— А «лидия» останется... хорошо принялась, скажу тебе. Весной собирался сухие ветки срезать, в рост пустить. Неужели расстреляют? А?
Декабрьский рассвет уже тронул небо, когда машина остановилась и всем приказали выходить. Сташенко помог сойти Люде и, держа ее за руку, побрел с ней в предутреннюю мглу, куда-то к посадкам, подгоняемый выкриками солдат.
Казалось, ко всему был готов Сташенко еще с того самого дня, когда расстался со своими дождливой ночью прошлой осенью. Писал им ясные и честные письма: «Умру если, детей жалей, люби. Пусть знают дети, чего от них жду, даже тогда, когда и в живых меня не будет. Чтобы настоящими патриотами были... Знайте, любил я вас. А сейчас вот выполняю свой долг. На мою долю выпало счастье продолжать борьбу с фашистской гадиной в тылу врага...»
Даже собственную смерть готов он простить врагу — что ж, война есть война. Но то, что они собирались расстреливать эту девочку, Люду... Ему чудилось, что он ведет за руку собственную дочь, поменьше этой... Если бы мог защитить, заслонить ее от пуль!
— Еврейское кладбище, — сказал кто-то по дороге. — Здесь в прошлом году немало положили. Тысячами. Земля, говорят, шевелилась...
Иных несли. Несли автоматчики, выполняющие привычную и порядком надоевшую им работу. Так попытался подумать Сташенко, который с трудом шел, волоча ногу и крепко сжимая маленькую руку девочки.
Читать дальше