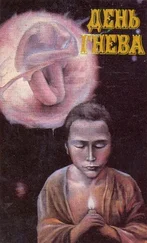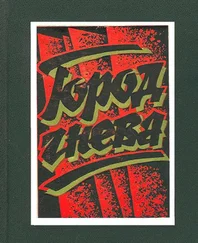— Чего я опасался, скажу прямо, так это слабости духа и предательства, — проговорил Иванченко, потирая озябшие руки. — Нынче почти чужие смело на связь идут, дела ищут. А коли поначалу свой, да молчит, голоса не подает, сторонится и в кустах отсиживается — тут, брат, всякая мысль мозг буравит.
Симаков сник, глаза его закраснелись, рукавом поношенного ватника он стер слезинку.
— Я вам сказал, товарищи, какая тому истинная причина... — проговорил, обращаясь к тем, кто как бы стоял рядом с Иванченко. — Оправдания, конечно, мне нет и быть не может...
Федор Сазонович смотрел на поникшую фигуру крепыша с чуть приплюснутым носом, с шеей борца и беспомощной улыбкой, и неуместное чувство жалости вдруг шевельнулось в нем. Подумал: «Отпустить его с миром, что ли... Пусть себе идет своей дорогой. Многосемейный человек, ввязался в подполье, теперь сам не рад. Не борец он — это точно, но, кажется, и не предатель, черт его побери...»
Симаков же, словно прочитав эти мысли Иванченко, заговорил торопливо и нескладно:
— Война каждого на поверку взяла, по ватерпасу равняет. Есть такой инструмент у нас — правило, деревянный брусок, кирпич им до кирпича подгоняем, стенку правим. Ты понял меня? Люди не кирпичи, а им тоже правило надобно, это точно. Спасибо, что нашел, товарищ Иванченко, по совести скажу. Я думал, забыли про меня, а выходит, еще при деле...
Иванченко снова утвердился в мысли, что надобно по семейным обстоятельствам деликатно освободить Симакова от опасных обязанностей, хотя тот уже сам освободился от них без помощи секретаря горкома: Федор Сазонович сейчас вспомнил об этой своей должности.
— Вот что, дружище... — Он оглянулся по сторонам, будто кто-нибудь на этой уединенной улочке пристанционного поселка, обсаженной высокими тополями, мог подслушать их, — считаю твою причину уважительной, слышишь? Уважительной. Разные обстоятельства складываются. Семейная причина у тебя. Считай, не виделись, прогноз правильный. Рад, что объяснились. Ты себя не казни. Прощай. — Иванченко протянул руку.
Симаков не замечал повисшей в воздухе руки Иванченко.
— Ты кто такой? — наконец спросил Симаков, поднимая измученный взор. — Кто ты есть, что демобилизацию делаешь? Военком?
— Нет, не военком.
— А кто же?
Федор Сазонович помолчал.
— Секретарь партии.
— Так я и думал, по совести скажу... Я тебя ждал.
— Коли ждал, мог наведаться. Явка, слава богу, известна.
— Не мог наведаться. Встречи ждал. Ты в самый раз прибыл. Знаешь, что творится здесь? Не знаешь? Зерно свозят — тыщи пудов. Мы им амбары латаем, все известно. На днях отправка в Германию начнется, машины работают и днем и ночью, как в лихорадке. В районах забирают все подчистую, до зернышка. Пойдем, глянешь. Там как раз приемка людей до немхоза, вроде безработный будешь. Только на службу покедова не становись. Делов еще много на объекте…
Федор Сазонович пришел на просторное подворье с внушительными складскими зданиями старинной архитектуры. Там кипела страда, напоминавшая уборочную. Вместе с солдатами работали и цивильные. Разгружая ревущие автомашины, они вскидывали мешки на плечи, пошатываясь, несли их в амбары, а затем бегом возвращались, подстегиваемые возгласами: «Шнеллер, шнеллер!»
Сотни глаз жителей с тоской наблюдали эту картину.
— Со всей области, видать, свозят, — сказал кто-то. — В Германию отправляют.
— А тебе откуда известно?
— Солдаты на постое говорили. Полная реквизиция.
— С голодухи набросились.
— Какая у них голодуха? Консервы да коньяки со всего мира награбили.
— Говорят, есть у них эрзацы такие, лепешки. Съел лепешку — и вроде борща наелся, цельный день воду пьешь, и только.
— Потому, наверно, и увозят наше зерно, что лепешек не хватило.
В толпе засмеялись.
— Глупости. Они наши яйки, и млеко, и сало, и курку с охотой жрут, чтоб им колом стало... Солдат — что? Для солдата пожрать — первое дело. Они нас погнали, они и сыты.
Жизнь уходила нынче от людей в виде мешков с мукой и зерном. Пыль в морозном безветрии стояла в воздухе. Эта хлебная пыль была в тысячу раз пыльнее и едче обыкновенной. От этой не отмоешься, она в сердце.
Федор Сазонович долго не мог уснуть, вставал, набрасывал пальто, выходил в сени и курил. На кровати стонала старуха. Бондарь, казалось, крепко спал.
Под утро, когда хозяин собирался на работу, постоялец рассказал ему о бессонной ночи. Тот ухмыльнулся. Оказывается, тоже не спал. Об одном думали.
Читать дальше