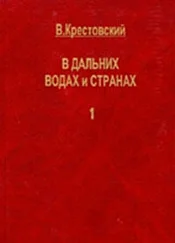— Однако соловья баснями не кормят! — воскликнул мой сожитель. — Что же, в самом деле, есть у нас что-нибудь есть?
В эту минуту вошел денщик мой, которого посылал я в трактир на фуражировку.
— Вот тебе и живой ответ на твой голодный вопрос, — сказал я, указывая на него Апроне. — Ну, что, Степан, что скажешь?
— Заперто, ваше благородие.
— Тфу ты! — с досадой топнул сожитель. — Ты б разбудил их!
— Я разбудил-с; только повара у них все разошедшись и огонь погашен, а буфетчик пьян-с; одначе ж я, взямши его деликатно, значит, за шиворот, препроводил в кладовую и нашел четыре холодных каклетки-с.
— Только четыре?! — вскричали мы с ужасом.
— Только-с, — ответствовал невозмутимый Степан.
— Ну, господа, утешительного мало!
— Так точно, ваше благородие, я и сам думал, что мало, и для тово толкнулся этта у нас внизу к евреям и добыл у них два куска жидовской щуки маринованной.
— Четыре котлетки и два куска жидовской щуки! Значит, положение наше еще не так отчаянно! Фонды подымаются!.. Ну, а дома не найдется ли еще хоть чего-нибудь из перекусок?
— Амар-с есть! — доложил Степан. — Копченая корюшка есть… сыру небольшой кусок остамшись… да еще с полбанки пикулей найдется.
— Так что же ты молчишь-то, голова!.. Живо тащи все это сюда… Живо!
— Каштаны тоже есть, ваше благородие! — вспомнил он, уходя уже за дверь. — И фрухта есть…
— Какая фрухта?
— Груши-с. Штук с десяток будет.
— Каштаны и груши! Пикули и омар! А ты говоришь, что ничего нет съедобного! Варвар ты эдакой!
— Так нетто, ваше благородие, все это съедобное? — недоверчиво ухмыльнулся мой Степан Григорьевич.
— А что ж, по-твоему?
— Так, малодушие одно… баловство, значит.
Однако наши жрицы Талии и Мельпомены настолько проголодались после длинного спектакля, что не сочли малодушием ни пропитанных каенским перцем английских пикулей, ни каштанов, которые они тотчас же стали печь в камине и преуморительно таскать их из полымя концами эспадронов.
Омар и копченая корюшка, котлеты и жидовская щука, пикули и ломти ржаного солдатского хлеба (за невозможностью достать лучшего) — все это исчезало с тарелок с быстротой вполне похвальной, как вдруг раздался звонок паки и паки, и вслед за тем вошли еще четверо товарищей.
— А мы на огонек! — объявили они. — Видим свет в окнах, слышим звук унылый фортепьяна — и зашли!
— Откуда Бог принес?
— От Колотовичей — там нынче вечер коротали на английском чае… Нет ли, господа, хоть рюмки водки-то?
— Есть!.. Только вот насчет закуски уже скудновато стало!
— А твой походный поросенок с курицей?
— Увы! Поросенка с курицей принесут от Роммера только завтра к семи часам!..
— Баше благородие! Картошка есть у нас! — возгласил вдруг Степан Григорьевич, как вестник спасения появляясь у двери.
— Что за картошка такая?
— Сырая-с. Только, значит, сичас молено сварить, а потом на сковородке поджарить, потому как у меня еще остался кусок сала свиного и цибулька-с… давеча мы с Аникеем для себя брали… так, значит, этта, можно поджарить со шкварками и с лучком-с. В один секунт будет готово!
— Картошка!.. Браво! Давай сюда картошку! — захлопали в ладоши наши дамы. — Душки, mesdames, давайте сами варить картошку! Это, душки, прелюбопытно будет!
Степан принес кастрюльку и лукошко картофеля. Девица Эль-синорская, засучив рукава своей бархатной курточки и фартуком подвязав вокруг талии столовую салфетку, принялась за стряпню: отбирала лучшие картофелины, обмывала их в воде, прополаскивала и укладывала в кастрюльку. Девица Радецкая резала на мелкие кусочки свиное сало, а Каскадовой выпала наигоршая доля: морщась от лучного запаха, летучий эфир которого до слез ел глаза, она крошила в тоненькие колечки головку цибульки, к затаенной потехе моего Степана, который с явным, хотя и безмолвным скептицизмом относился к мудреной стряпне «барышень-актерок». Но барышни-актерки — худо ли, хорошо ли — дело свое справляли довольно споро. Наполненная доверху кастрюлька уже кипела на таганке, а Эльсинорская, присев на корточки перед камином, усердно подкладывала железным прутом каленые уголья и головешки под кастрюлю, — и картошка, при таковых стараниях, поспела довольно скоро. Живо ее облупили, еще живее искрошили с помощью вилок, пересыпали луком и салом, посолили, перемешали всю эту кутерьму, выложили на сковороду и отправили снова в камин на ту же самую таганку, но теперь уже не вариться, а жариться. Девица Эльсинорская, вся раскрасневшаяся, как рак, от двойного жара огня и собственного усердия, вся озаренная с лица ярким, перебегающе багровым светом полымя, с папироской в зубах, все так же сидела на корточках и, пошевеливая сковороду, то и дело ворошила вилкой картофельное крошево, чтоб оно получше прожаривалось да побольше румянилось.
Читать дальше