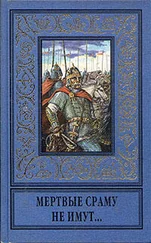Огромная чёрная тень сзади прыгнула на немца, и все покатилось.
Потом Васич чувствовал, что его под мышки тащат куда-то вверх. Сознание возникало и обрывалось, и то, что видел он, не было связано. Он увидел потолок кабины, увидел над собой лицо Голубева при красной вспышке огня. Что-то нужно было сказать Голубеву. Важное что-то. Васича больно тряхнуло и потом уже все время трясло, и от боли он терял мелькавшую мысль.
Ветер хлынул ему навстречу. Щеками, лицом, уже покрытым смертной испариной, он почувствовал этот холодный ветер, и ему стало легче.
Таяло. За окном на маленькой деревенской площади грязь и снег размешаны колёсами. У коновязи рыжий, блестящий на солнце жеребёнок, задрав пушистый хвост, пугливо делал своё дело; от свежего навоза шёл пар. Жеребёнок вдруг отпрыгнул в сторону и скрылся из виду: через площадь, разбрызгивая сапогами жидкий снег, быстро прошёл озабоченный Баградзе с охапкой хвороста. Ищенко остро позавидовал ему. Он сидел посреди комнаты за столом. По-весеннему горячее солнце ломилось сквозь пыльные стекла, блестело в графине с водой. В дымной, накуренной комнате было жарко от солнца.
Ищенко сказали сесть, как только он вошёл. А трое — командир полка полковник Стеценко, капитан СМЕРШа Елютин и замполит майор Кораблинов, хмуро сидевшие до этих пор за столом, встали сразу же и отошли в разные углы комнаты. Они встали, чтя память погибшего дивизиона, встали перед ним, живым вышедшим из этого боя, потому что бой, в котором они сами участвовали, был несравним с тем, из которого вышел он с горстью уцелевших людей.
Но Ищенко не почувствовал этого. Он шёл сюда на допрос, боялся этого допроса, и, когда ему сказали сесть, он сел, как подсудимый. Его настораживало их какое-то непонятное отношение к нему. Он не доверял им, сидел напряжённый и на вопросы отвечал точно: ни больше, ни меньше того, о чем его спрашивали.
В какой-то момент отношение к Ищенко переменилось — он это почувствовал сразу. Командир полка странно глянул на него тёмными, прижмуренными глазами и отвернулся к окну. И с тех пор молча курил у окна: Ищенко видна была его прямая спина, мускулистая прямая шея, лысеющий затылок, которым он едва не доставал до низкого потолка хаты. Каждый раз, отвечая на вопрос, Ищенко взглядывал на командира полка, в нем инстинктивно искал защиты. Но видел только смуглую щеку, сожмуренный от табачного дыма глаз и кончик его чёрного уса. Замполит нервно ходил по комнате или вдруг садился на кровать, раскачивался, сутулясь, зажав ладони в коленях. Он был самый молодой, недавно назначен на эту должность, и его Ищенко не боялся.
Вопросы с обдуманной последовательностью задавал Елютин. Обняв себя руками за могучие плечи, он почёсывал спину об угол этажерки, но глаза из-под крупного с залысинами лба смотрели холодно и пристально. Всякий раз, встречая их взгляд, Ищенко чувствовал перебои сердца и противную слабость в коленях.
Он помнил Елютина ещё в погонах лётчика, в хромовых сапогах на меху: его прислали к ним в полк из авиационной части. Сейчас на Елютине были армейские кирзовые сапоги, на плечах — артиллерийские погоны.
— Значит, третья батарея к лесу уже подходила? — спросил Елютин.
— Первая, — терпеливо поправил Ищенко.
Елютин все время путал номера батарей и расположение. Но Ищенко казалось, что он не случайно путает, и, весь напрягаясь, он старался следовать за его мыслью, предугадать дальнейший вопрос.
— Ну да, первая! А танки уже видны были? Стрелять можно было по танкам?
Над деревней, придавив все на земле гулом моторов, шла большая волна бомбардировщиков; стекла в хате тонко зазвенели. Слышно было, как в сенях и по крыльцу затопали сапоги ординарцев: побежали глядеть. Елютин, улыбаясь, подмигнул Кораблинову на окно, за которым проходили в небе бомбардировщики: мол, вот оно, его родное, кровное. И хотя Ищенко понимал, что это не ему дружески улыбаются, ему так хотелось быть равным среди них, что губы его сами, непроизвольно и унизительно, растянулись в ответную улыбку. Он тут же погасил её, пользуясь тем, что никто на него не смотрит, быстро вытер пот с лица.
— По танкам, говорю, могли уже стрелять? — повторил Елютин вопрос, когда гул отдалился и снова стало возможно разговаривать.
— Орудие было в походном положении… Надо было привести в боевое… Стать на позицию…
Если бы об этом бое, во время которого почти безоружные люди сожгли шесть танков, дрались до последней возможности, дрались и умирали, не пропуская немцев, если бы об этом бое рассказывал Ушаков, которому нечего было стыдиться, он бы рассказывал с болью, но и гордостью. Ищенко оправдывался. Он мог оправдываться только за себя, но он рассказывал о дивизионе, и получалось, что в действиях всего дивизиона — и тех, кто жив, и тех, кто погиб в бою, — было что-то постыдное, что он старался скрыть.
Читать дальше