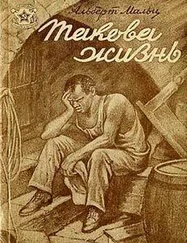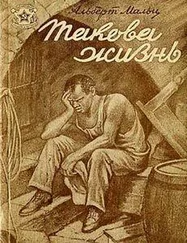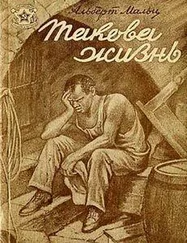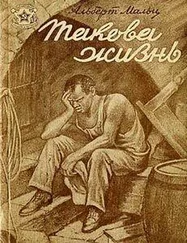Но эти мысли пришли к нему много позже. А в тот день он сидел на скамье, скованный нерешительностью. В голове его проносились сбивчивые мысли: а что, если мать ему не поверит? Он ведь простой рабочий, а она, по-видимому, богатая аристократка — у нее есть нянька, кухарка… Что если нянька отопрется и его привлекут к суду за клевету? Как он сможет доказать свое обвинение? Да никак. Против его показаний выступит вторая девица; естественно, она будет выгораживать подругу. Господи, его наверное оштрафуют, а то еще и посадят в тюрьму. А если даже мать поверит и будет ему благодарна, вероятнее всего, она засадит няньку в тюрьму и ему придется выступать на суде. И в такое время, когда столько людей без работы, он наверняка потеряет место. Прежде всего он должен подумать о своей семье, не так ли?
Он сидел на скамейке, раздираемый сомнениями, весь в испарине, словно от лихорадки… и не трогался с места. Вскоре обе няньки скрылись за поворотом аллеи. Веглер понимал, что пока не поздно, нужно встать и броситься вслед за ними, но продолжал сидеть, как чурбан, как бесчувственная скотина, и наконец, когда он вскочил с места, они уже исчезли из виду.
Тогда Веглер не знал, да и позже не мог понять, что он был жертвой основного закона нашего времени, неписаного кодекса, по которому человек в нашем обществе должен заранее взвесить и тщательно обдумать каждый свой порядочный поступок, чтобы самому же за него не поплатиться, — жестокая истина, доказывающая, что этот лучший из миров устроен так, чтобы заставить людей быть иными, чем им хотелось бы, сделать их более трусливыми и в то же время более эгоистичными, чем они есть. Веглера же только мучил стыд оттого, что он не последовал своему душевному порыву, куда бы это его ни привело. По ночам в постели или днем, любуясь своим сынишкой, он вдруг вспоминал ту скамейку, грубый самодовольный голос, круглое, как луна, лицо. Время шло, и это воспоминание терзало его все реже, но так и не изгладилось из памяти. А теперь оно снова ожило, как смутное неприятное видение, и ему показалось, будто запах эфира — это запах газа в духовке, а толстые руки и луноподобное лицо маячат над койкой, словно напоминание о непрощенном грехе…
Мало-помалу мозг его прояснялся. Пульсация в животе стала еще острее, болезненнее. Вскоре он понял, что здесь — не завод и не стук парового молота отдается болью в его внутренностях, а что-то другое. И внезапно он вспомнил все… даже ту последнюю секунду, когда в него выстрелили. В ту секунду он увидел ставшего на колено эсэсовца и лунный блик на дуле винтовки. И, оцепенев от смертельного страха, он все же не бросился прочь, а зажег еще одну спичку и швырнул ее в сено, сложенное в виде стрелы. Сейчас он сообразил, что лежит в больнице, — значит, тот эсэсовец ранил его.
Он старался как можно спокойнее выяснить, что с ним. Болело где-то в животе; по-видимому, рана — там. Он хотел было ощупать повязку, но обнаружил, что не может двинуть левой рукой. Приподняв голову, он повернулся, увидел резиновую трубку с иглой на конце и заметил, что рука его прибинтована к постели. Он ослабел и, чувствуя, как дрожат мускулы шеи, уронил голову на горячую подушку. Что это за прибор? Разве его ранили и в руку? Правой рукой он ощупал себя под одеялом и обнаружил, что ноги голые, а верхняя часть туловища прикрыта грубой больничной рубашкой. От нижних ребер до паха лежала толстая повязка, приклеенная липкой лентой.
Значит, он ранен в живот! В первую мировую войну он два года был на фронте; он знал, что ждет человека, когда стальная пуля пробивает человеку кишки. На фронте такие раненые обычно не выживали. Впрочем, может быть, теперь есть какие-нибудь новые средства, или обойдется и так, — может, ему повезло.
Беглая мысль о том, что ему повезло, через мгновение вдруг оглушила его, как взрыв. Впервые с тех пор, как он пришел в себя, Веглер ясно понял весь смысл своего положения. Мертвый, он был бы в безопасности. Раненный, он попал в такую страшную ловушку, в которой не должна бы оказаться даже крыса, если только на свете есть милосердие. После того, что он сделал (сердце его вдруг замерло), нет таких пыток, которых они не придумают, чтобы покарать его. Сейчас, в эту минуту, он, Вилли Веглер, всецело в их руках, и единственный лежащий перед ним путь ведет к засыпанной известью могиле.
Изнемогая от страха, Веглер искал, чем бы поддержать в себе мужество. Что он в силах сделать? Он знал, что означает эта рана, — он уже чувствовал томительную слабость во всем теле. Ему остается только лежать неподвижно, готовясь к невообразимым мукам. Он ясно представлял себе, что будет с ним в ближайшие часы: как только те узнают, что он пришел в себя, они за него возьмутся. Придет Баумер. Он будет выпытывать, кто его сообщники. Что можно на это ответить? Баумер захочет знать, почему он сигнализировал англичанам. Но он не мог объяснить этого даже Берте, как же ему растолковать Баумеру? Как может он объяснить то, что не до конца понятно ему самому?.. Однако только ради того, чтобы заставить его говорить, они вернули его к жизни и бросили на эту больничную койку. Он знал, что последует, если у него хватит смелости молчать.
Читать дальше