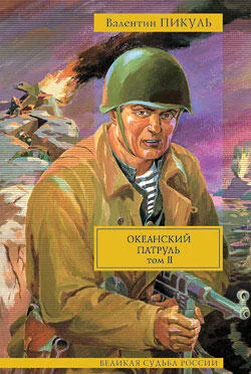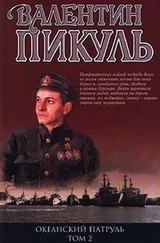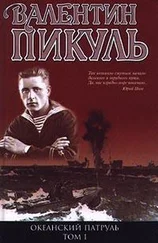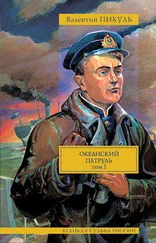На середину вышел русский полковник, сказал отчетливо по-немецки:
– Всем, кто имеет какую-либо просьбу, обращаться немедленно, в дороге претензии приниматься не будут.
Колонна пленных не шелохнулась, задавленная страхом неизвестного. И вдруг с правого фланга отделился артиллерийский офицер с двумя заляпанными грязью чемоданами в руках.
– Обер-лейтенант Эрнст Бартельс, – назвал он себя, щелкнув каблуками подкованных шипами сапог. – Я специалист по лишайникам северной флоры, до войны имел переписку с виднейшими университетами мира, в том числе и с Ленинградским университетом. Артиллерия – моя случайная профессия. Здесь, в этих чемоданах, моя коллекция, прошу сохранить ее для будущего…
Русский полковник внимательно посмотрел на пленного.
– Обещаю вам, – сказал он, – передать это по назначению. Возвращайтесь в строй…
И ефрейтор Нишец услышал, как глубоко, как облегченно вздохнул Эрнст Бартельс, точно он был самым счастливым человеком в этой мрачной колонне.
В дороге на каждых пятерых военнопленных выдали по здоровенной буханке хлеба и банку рыбных консервов. Буханки кое-как разломали, ссорясь из-за того, кому досталось больше, кому меньше, а консервы открыть не могли – ножи отобрали при обыске.
Один русский конвоир стал обходить колонну, по очереди раскупоривая банки финским ножом.
– Америка?.. Америка? – спрашивал лейтенант Вальдер, тыча в яркую этикетку на банке.
– Дурак! – ответил конвоир. – Читай, коли грамотный… Видишь… «Мурманский рыбный комбинат»!..
Лейтенант Вальдер, решив, что сказал какую-то неприятную для русских вещь, за которую его могут расстрелять, поспешил укрыться в толпе. Нишец от рыбных консервов повеселел, но хлеб есть не стал, приберег – говорили, что потом не будут кормить до самой Сибири.
На дворе Печенгской тюрьмы, из которой он осенью попал прямо в психиатрическую палату госпиталя, неожиданно встретил Франца Яунзена.
– И ты здесь? – удивился ефрейтор.
Гитлеровский юнец оскорбился.
– Ты выхватил тогда обойму, и мне было нечем защищаться от русских, – сказал он. – А то бы я дорого отдал свою жизнь!
– Не ври, Франц, – засмеялся Нишец и вдруг поймал себя на том, что смеется впервые за последнее время. – Не ври, Франц, – почти с удовольствием повторил он, – патроны валялись на каждом шагу, просто ты большой трус. Недаром ты не мог дослужиться даже до ефрейтора, хотя и был наци… Убивать безоружных, как это делал ты здесь, в этой тюрьме, с финнами, – вот и вся твоя смелость!..
– Я убегу, – мрачно посулил Франц и отвернулся; но, заметив, что ефрейтор отщипывает из кармана кусочки хлеба, отправляя их в рот, он спросил:
– Где ты взял хлеб?
– Дали.
– Кто?
– Русские.
– А нам еще не давали.
– Ну обожди, дадут.
– А ты поделись со мной, будь товарищем…
Нишец нехотя разломил пополам кусок:
– На, вкусный хлеб, русский. Это тебе, парень, не тощие английские сандвичи!..
Франц озлобленно промолчал, вгрызаясь в краюху. Ночь военнопленные провели в казематах, а на рассвете их построили в колонну и повели на восток. Пауль Нишец снова шел по той самой дороге, по которой когда-то наступал и по которой отступал. Сейчас он снова, если судить по направлению пути, снова «наступает». Черт возьми, точно какая-то дикая сила толкала его все эти годы – вперед, назад, туда, сюда, на восток, на запад…
Молодые русские офицеры, наверное корреспонденты, попросили конвоиров придержать колонну, чтобы сфотографировать ее на марше. В лейтенанте Вальдере проснулась угодливость бывшего шупо. Он стал бегать по рядам военнопленных, наводя порядок, велел солдатам подтянуться, а сам с самодовольной миной высунулся на передний план.
«Дурак!» – подумал про него Нишец, прячась за чью-то спину. Он нисколько не досадовал на то, что попал в плен, но и радоваться особенно не приходилось. Затеяли войну с русскими, разорили и выжгли Лапландию, разрушили Петсамо, русские надавали нам по каске, теперь взяли в плен – чего уж тут хорошего!.. «Вот уж дурак – так дурак!» – подумал он еще раз про лейтенанта Вальдера и даже присел, чтобы не попасть в объектив аппарата…
В становище Титовка всех военнопленных накормили горячей кашей. Теперь уже никто не оставлял хлеба – ели, зная, что в пути их накормят. Конвоиры вели себя хотя и строго, но жестокостей не творили. Одного тирольского стрелка, раненного в ногу, они даже посадили на попутную машину, и он уехал, махая колонне своим кепи с пером.
Читать дальше