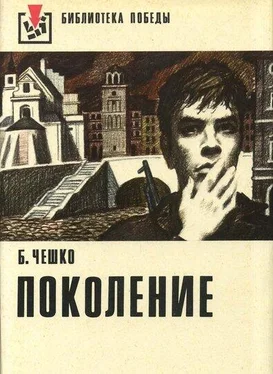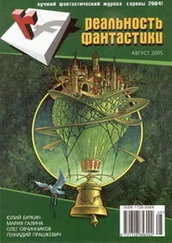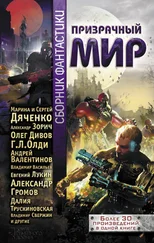— Видишь, Магда, он не слушается врача. Зови ксендза, я умываю руки.
— Константин, не валяй дурака, это печальные шутки.
— Ну, ну… Ты все воспринимаешь по-женски, всерьез. У вас всегда если уж любовь, то до гробовой доски, если болезнь, то с роковым исходом. Нечего беспокоиться — все будет в порядке.
Так приходилось доктору заговаривать страшных призраков, которых он сам же вызывал.
— Сижу я вчера и читаю. Что? «К самому себе» Марка Аврелия. Книжка ко времени: есть в ней что-то гитлеровское — рецепты, как облагородить душу, насытив ее равнодушием и презрением. Читаю и верчу в руке рулон бумажной ленты, знаешь, этой, прорезиненной, которую рекомендовали наклеивать крест-накрест на стекла — от взрывов. В тридцать девятом году я уверовал в это, старый дурак, как баба, которая верит, что можно потушить пожар, творя над огнем крестное знамение иконой святого Флориана. Купил я эту ленту, но заклеить не успел, от взрывной волны вылетели все стекла. Недавно я убирал у себя и обнаружил ее.
— Представляю себе эту уборку, — не выдержала мать, и все улыбнулись.
— О чем это я? Ага. Так вот, забыл я про Марка Аврелия, гляжу на рулон ленты и катаю его по столу, словно колесо от тачки. Вспомнился мне тридцать девятый год, тонны человеческого мяса, которые прошли через мои руки. Ну и стал я думать о немцах.
— Ага, — буркнул Корецкий.
— Думал я о них, правда, не очень много, да и недолго. Представь себе, на столе было чернильное пятно, еще влажное. Я посадил его, когда вписывал на поля свои комментарии к Марку Аврелию. Въехал я в это пятно колесиком — и вижу: пятно отпечатывается на столе при каждом обороте рулона. И я подумал: «А что, если б это была буква?»
— Ничего нового. Исключительное право издания Copyright by Gutenberg. — Юрек безнадежно махнул рукой.
— Ты прав, столяр, к сожалению, изобретатель был немцем. Но слушай дальше. Буквы можно отпечатать на матовой стороне прорезиненной ленты. Ленту резать и лепить на что попало. Из букв можно составить недурные фразы. Например: «Бей немца!», «Саботаж — твое оружие!» — и тому подобное.
Следующие полчаса два старых друга забавлялись, сочиняя лозунги, хлесткие, как удар бича.
Затем стали приходить с визитом тетки, состарившиеся среди кушеток в чехлах, жардиньерок и вышитых дорожек. Они без конца предлагали испытанные домашние средства. Устраивали «консилиумы» и наперебой болтали разные глупости. На стул они садились плотно, застегнутые под самой шеей платья были похожи на саркофаги, закупорившие их чудовищные тела. Самой неукротимой в своей самаритянской деятельности была тетка Мария. Она подкладывала больному под спину все имеющиеся в доме подушки и бранила Корецкую за бессердечие, пуская в ход такие выражения, которые можно было простить, только приняв во внимание ее безмерное, как океан, невежество.
Она, не переставая, ныла:
— Мадзя, пойми: женщина всегда имеет влияние на своего мужа. Правда, вы не венчаны, следовательно, живете в прелюбодеянии…
— Что вы говорите…
— Да, дитя мое, я своими ушами слышала, как наш Марек хвастался однажды: «Хоть семья заставила меня венчаться в костеле, но я заморочил голову ксендзу и на исповеди перед венчанием не был». А слышала я это, дитя мое, на именинах у Янека, такого же безбожника. Наш Марек, захмелев от нескольких рюмок сливянки, понес такое, что стыдно вспомнить. «Подхожу я к исповедальне, — говорит он, — и слышу: «Преклони колени, сын мой. Что ты хочешь поведать господу?» А я отвечаю, что на колени не встану, потому что брюки у меня только что выглажены. Исповедоваться не буду, потому что в бога не верю, а если б даже стал исповедоваться, исповедь была бы сплошным враньем. Что же касается брака, то венчаться не стану, если ксендз будет настаивать на исповеди». Ксендз захлопнул дверь исповедальни и повел твоего мужа в ризницу, сказав, что он денежные дела перед лицом алтаря решать не намерен. Как-то там они столковались, и Марек на исповеди не был, значит, таинство брака считается недействительным, следовательно, вы совершили грех и живете в прелюбодеянии. Так или нет?
Корецкая молчала, впрочем, она уже давно не слушала эту болтовню, погрузившись под монотонный, словно шум мельничного колеса, голос Марии в думы о каком-то неотложном деле.
— Учти, еще есть время исправить зло… На лице Марека я читаю печать вечности… Нужно примириться с богом… молись… ты имеешь на него влияние…
Корецкая просила не волновать больного подобными разговорами, но тетку унять было невозможно. Больше всего она жаждала увеличить собственные шансы на спасение, вернув в лоно церкви закоренелого грешника. Она сидела и вздыхала над мелькающими спицами вязанья. Наконец взяла да и высказала все, что накипело у нее на сердце. Корецкий попросил прекратить бессмысленный разговор. Но тетка находилась уже в состоянии религиозной истерии и, как ей казалось, была осенена свыше.
Читать дальше