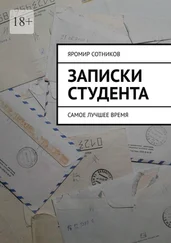Солдаты покупают для своих возлюбленных косынки с золотой розочкой.
А венским и будапештским дамам наверняка придутся по вкусу короткие восточные жакеты в талию, которые будут потом красоваться на стенах их салонов под сербской винтовкой, жестяной флягой и скрещенными саблями.
По кривым улочкам с домами, похожими на осиные гнезда, поставленными где и как попало, катятся арбы, в которых сидят турки-помещики с угреватыми носами.
Спешат куда‑то красивые рослые албанцы, бронзовые удальцы с вкрадчивыми, кошачьими движениями. Они насмешливо проносят над толпой свои орлиные носы и вскидывают головы, точно хотят заклевать всю эту снующую вокруг мелюзгу.
Не зря остановился австрийский ополченец, изнуренный десятилетиями труда в сапожной мастерской или у ткацкого станка, опустив и без того сутулые плечи, смотрит вслед этим молодцам, словно бы явившимся из самого рая.
Да, мало тут забривали в солдаты!
Они не знают, что такое военная служба, эти парни, стройные, как горные ели, красивые и беззаботные, как херувимы!
Они вне мира со всеми его эпохальными событиями.
* * *
На улицах много горцев, все — с оружием.
Поражаешься, откуда берут они огнестрельные припасы для своих старинных ружей, заряжаемых через дуло, и для наиновейших австрийских, турецких, сербских, русских, итальянских винтовок. Где они добывают столько патронов, латунные головки которых выглядывают из их кожаных поясов?
Вот важно выступают бояре, предводители отрядов, чисто одетые, их лица точно исцарапаны тернием, а за шелковыми кушаками поблескивают серебряные рукояти пистолетов.
За боярами тянется длинная вереница чираджиев — погонщиков вьючного скота; они погоняют своих лошаков, тяжело нагруженных, безропотно перебирающих ногами: «Айда, айдь, айдь, айдь!».
Смотрю я на бояр, на чираджиев, и на память приходит легенда о трех волхвах, которые привезли младенцу Иисусу золото, миро и кадило.
Право, чираджии, смуглые погонщики‑точно сошли с гравюр, изображающих библейскую древность. Эти бродяги одеты в жалкое тряпье; развеваясь, оно обнажает их загорелые груди, ноги и зады в струпьях. Они ко всему равнодушны, их мозолистые ступни не ощущают острых граней щебня, которым засыпали эту дорогу австрийские трудовые колонны.
Опираясь о пастушьи посохи, со слипшимися, ниспадающими до плеч волосами, они ведут своих осликов в Призрен, как их евангельские предки — в Вифлеем.
Так выглядели пустынники, которые живы были единым духом святым, питаясь кореньями и утоляя жажду росой. Их лица настолько зарастали бородами, что до рта не добраться, не протолкнуть ни крохи еды, дабы насытить грешное чрево, ни капли воды, дабы освежить изнуренное тело, с радостной готовностью отдающее себя на съедение блохам и вшам.
Чираджии нигде не останавливаются, ни с кем не здороваются, ничему не удивляются.
Их безразличие ко всему воистину достойно удивления!
Война согнала их с гор, где они пасли хозяйские стада (о, пастушьи свирели!), и вот, наломав сучьев да веток, они целый день везут их на своих чесоточных лошаках в Призрен, где остро ощущается нехватка топлива.
Тем большая нехватка, что все заборы уже разобраны и сожжены, а все плохо прибитые доски оторваны.
Призренские домохозяева стерегут свои владения, чтобы иноземные солдаты не разнесли по щепам крыши, не уволокли бы часть стены, не сравняли бы их мирное жилище с землей.
Ибо глаз каждого солдата благодаря долгой практике виртуозно наметан и с лету определит, сколько тепла даст та или иная доска или балка, если ее бросить в костер.
До того навострилось солдатское зрение, что полностью утратило способность воспринимать какое‑либо иное назначение дерева, будь то пол, стропила, мебель, галерея, забор или какая‑нибудь другая, совершенно излишняя роскошь. По одному только виду древесины и по тому, насколько она высохла, — что узнается на ощупь, двумя пальцами, большим и указательным, — солдат мигом смекнет, какой будет огонь и можно ли на нем, к примеру, сварить котелок картошки в мундирах.
Впрочем, для начала нужно будет долго разыскивать в своей роте топор — объект бесконечных краж, который в результате изощренной воровской махинации может временно попасть в руки самого владельца.
Чираджии равнодушно выслушивают все скептические суждения солдат, избалованных биваками в сербских деревнях, где кровли за многие десятилетия великолепно просушены палящим солнцем. Упрямо отмахиваясь от несерьезных предложений, они продают тощую вязанку сырой древесины за пять крон, иначе говоря — за пять марок, иначе говоря — за пять левов или лир, иначе говоря — за десять сербских динаров.
Читать дальше

![Яромир Тишинский - Вечная осень нового мира [СИ]](/books/35127/yaromir-tishinskij-vechnaya-osen-novogo-mira-si-thumb.webp)