Бой длился неизвестно сколько, это определить было так же невозможно, как только что открывший глаза человек не может сказать, сколько он проспал: пять минут или пять часов. Время слилось в одно бесконечное мгновение. Но вот стрельба затихла и не вскипела снова, лишь отдельные выстрелы потрескивают. Павел поднялся и, не обращая внимания на шипение Мани, пошел на кухню.
– Немцы ходят.
Значит – все-таки немцы. Они уже выползли из канав, толкутся около аптеки, ходят по шоссе. Пожар! Пылает двухэтажное общежитие. Пламя лижет черные плотные клубы дыма, обжигает им брюхо, они судорожно перекатываются, как от боли, рвутся вверх.
Минуту назад всем хотелось одного: увидеть своих, красноармейцев. Но теперь подумалось: а что будет с нами?
– Спалят, – еле слышно сказала Маня, – они у нас и людей, всех…
И вот теперь, когда бой кончился, пришел настоящий страх. Что вздумают делать эти чужие люди, от которых хорошего ждать не приходится?
Много потом было дней и часов, когда над поселком, над жителями нависала мстительная жестокость врага, но никогда поселок не был так беззащитен и беспомощен.
Приказано было собраться на базарной площади. Оповещал Лапов. Теперь он, толстый, весь в поту, всунулся в хату и не поздоровался. То, что ходили не сами немцы, немного успокаивало. Хотел отправиться Павел, но мама решила, что женщине безопасней. Она вышла за калитку и остановилась, напряженно всматриваясь в сторону аптеки. Подбежав к окну, обращенному к шоссе, Толя сначала почувствовал что-то до боли знакомое в людях, которых он увидел, а уже потом дошло до его сознания: это же красноармейцы! На поле четверо в пашем обмундировании. Стоят, будто связанные друг с другом, напряженно повернутые к чему-то, чего отсюда не видно: загорожено аптекой.
– Расстреливают! – громко крикнул Алексей.
Внезапно с людьми что-то сделалось: крайний широко взмахнул руками и отвалился назад, а второй обхватил живот и боком, боком пошел вперед, тихонько опустился на колени, потом так же тихонько прилег. Третий уже лежал. А автоматы все трещали. Последний, самый высокий, падал долго. Он ступил вперед, потом назад, точно накренилась у него под ногами вся земля. Мучительно медленно, тяжело, как подпиленное дерево, он повернулся и упал лицом вниз.
Вбежала мама.
– Никуда не выходите, боже…
Из-за аптеки показались немцы, встали около убитых. Потом привели мужчин с лопатами. Убитых понесли к лесу. Снова никого не стало видно.
В дом вскочила Анюта.
– Ой, милые, и Прохорова, что на радиве, забили. Там за хливом лежит. Ох, лишенько, чего я дочекаюсь со своим сухоруким несчастьем.
Так Анютка всегда называла своего второго мужа Мовшу. Но жили они душа в душу. Дома у них всегда все орут: Леник – малыш от первого мужа, Мовша, а больше всех сама Анютка. Но в этой шумной, крикливой семье всегда весело. Толе нравилось у них бывать.
– Кому, Анютка, твой Мовша нужен? – неуверенно успокаивает женщину мама, не отрывая взгляда от окна.
Анютка ожила еще больше, как печка, в которую плеснули керосином:
– Любушки, так приходил уже одноглазый черт. Они с моим, когда работали в больнице, четвертушки все распивали. А тут влез в хату, поводил бельмом, ничего не сказал и ушел. Чует мое сердце! Вчера Мовша без этой звезды ихней вышел, так немец до самого дома гнал его и все кулаком по голове бил.
– Уйти бы ему, – поведя плечами, как от холода, сказала мама. – Правда, уговори его, Анюта. Нельзя же ждать.
– А куда, а где спрячешься? И кому он шо сделал, над ким начальником был, это сухорукое несчастье? Надо мною только и начальник.
Когда Анюта лопочет, не поймешь, плакать или смеяться ей хочется больше. У нее все вместе. Вот и теперь в слезе смешинка блеснула: кому-кому, а ей-то хорошо известно, кто у них в доме начальство.
– Ты не ходи, Аня, – сказал Павел, – лучше я.
– Не выходите, – только и ответила мама и ушла.
Явился рослый, плечистый фельдшер Грабовский. У Корзунов он прост – Владик. Взрослую профессию он приобрел перед самой войной, а друзья у него остались прежние: Алексей, Янек, даже Толя.
– Слышали, что Генка отколол?
Это он про радиста Прохорова. Оказывается, во время боя Прохоров вышел из дому и прямо на улице стал перевязывать раненого красноармейца. Его и схватили. Владик говорит о Прохорове с неподдельной лаской и любованием. Но кажется, что для Владика самое важное и интересное в поступке радиста то, что Прохоров был «как земля».
– Ночью мы первача хватили, я только под утро домой добрался. Генка на карачках выполз к раненому.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
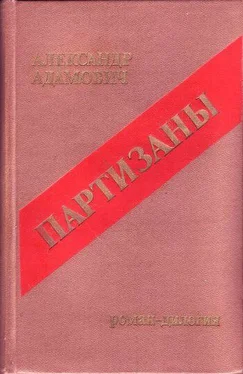
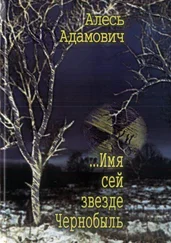

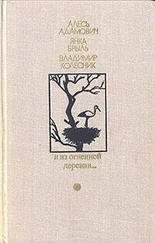

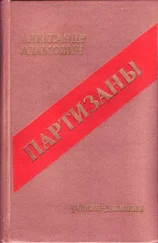



![Алесь Адамович - Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/books/420284/ales-adamovich-puti-v-neznaemoe-pisateli-rasskazy-thumb.webp)


