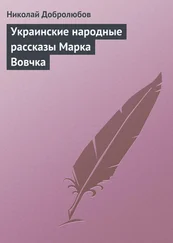Резко повернувшись, я кинулся к дверям. Упала задетая локтем ваза с грустными осенними астрами. Звонко задребезжала посуда в серванте.
Несколько минут назад, заканчивая писать свой роман, я утверждал: в жизни человека бывают такие обстоятельства, когда самое лучшее — это покончить с собой. Смерть Александры я считал закономерной и логичной. И вот сейчас еще одна женщина искала в самоубийстве выход из тупика, в который привела ее жизнь. Я был уверен в том, что эта хрупкая, почему-то ставшая мне близкой и дорогой женщина, сейчас бежит к мосту с тяжелыми чугунными перилами. И я не думал, что глупо и смешно гнаться за незнакомой женщиной лишь потому, что эта ночь копия той, которую я только что описал, а мысли мои заняты Александрой. На мгновение мелькнул вопрос:
«Ты уверен: лучшее для Александры — смерть. Ты не видел для нее иного выхода. Зачем же ты хочешь помешать этой живой женщине поступить так, как она считает нужным?»
Мысль мелькнула и оборвалась. Не знаю, чем объяснить мое безумное желание спасти жизнь незнакомке. Может быть, тем, что за письменным столом я, не колеблясь, заставлял броситься в реку Александру? Или потому, что в жизни мы все же довольно часто совершаем не те поступки, которые нам хотелось бы совершить, и ведем себя нередко отнюдь не так, как учат нас вести себя умные книги?
Я распахнул входную дверь и даже не обратил внимания на то, что она не заперта. Вихрем, перескакивая по две ступеньки, я скорее скатился, нежели сбежал вниз, наполняя лестничную клетку грохотом каменных плит ступенек.
Ахнула дверь, гул ступенек и стук каблуков все еще метался между потолком и полом в подъезде, в лицо мне полетели холодные капли дождя и…
Пораженный, растерянный, я невольно отступил назад, не отрывая взгляда от испуганного и удивленного лица женщины, ее широко открытых, так хорошо знакомых мне глаз. А она шагнула ко мне, легко прикоснулась пальцами к лацкану моего пиджака, и я скорее почувствовал, чем услышал, как она очень тихо спросила:
— Что случилось, Сергей Николаевич?
За моей спиной скрипнула дверь. Я обернулся и увидел грязно-седую взлохмаченную голову, высунувшуюся на тощей шее из-за полуоткрытой двери. Мне стало смешно и весело.
Галя, наша милая соседка Галя, что живет этажом выше, на минутку заскочила за новым журналом к своим приятелям и, как обычно, засиделась допоздна. Снова, должно быть, спорили о поэзии и о новых проектах стандартных жилых домов, пили черный кофе (а быть может, сухое болгарское вино), танцевали под транзисторный приемник, делились впечатлениями о сегодняшнем и планами на завтрашний день. А я…
Костлявая голова продолжала ворчать о сумасшедших, которые сломя голову носятся в полночь по лестнице, мешая спать нормальным людям. Но я, не обращая внимания на скрипучий голос, взял Галину под руку, и, уже поднимаясь по лестнице вверх, сказал — громко и бодро:
— Ничего не случилось. Просто хорошо жить на этом свете, Галя. Чертовски хорошо!
…Вернувшись в комнату, я подошел к столу, взял ручку. Не садясь в кресло, быстро написал на чистом листе бумаги:
«Совсем рядом послышались торопливые шаги. Александра вздрогнула, порывисто повернула голову. В колыхающейся кисее тумана появился силуэт идущего по мосту человека.
«Помешает», — мелькнула мысль.
И уже больше ни о чем не думая, Александра закрыла глаза, перевалилась через перила и, падая, вскрикнула».
Я долго не отрывал пера от поставленной мною точки. Затем строчкой ниже медленно вывел: «Конец».
Из спальни, неторопливо запахивая полы халата, вышла жена. Сладко зевнула.
— Куда это ты носился, дорогой?
— Я тебе об этом расскажу позже.
— Как хочешь. А сейчас, наверное, пора отдыхать.
— Да, пожалуй, пора. Сейчас…
Я снова склонился над рукописью и решительно, твердо дописал после слова «Конец»: «первой книги».
Их двое в этом опустевшем парке.
Она уходит по усыпанной ракушечным песком, пятнистой от опавшей листвы аллее, а он одиноко сидит на сразу ставшей неуютной и заброшенной скамье.
Трепетно вздрагивают тонкие пряди березовых ветвей, едва заметно шевелятся багряные, опаленные осенью лапчатые листья кленов.
Где-то далеко и тягуче прогудел паровоз. И от этого протяжного, медленно растаявшего в прозрачном воздухе звука становится совсем грустно. Далекий гудок паровоза всегда будит смутные воспоминания о чем-то несвершившемся и безвозвратно утраченном, манит в неведомые дали.
Читать дальше
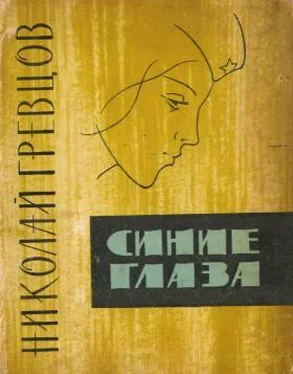
![Николай Олейников - Боевые дни [Рассказы, очерки и приключения]](/books/30485/nikolaj-olejnikov-boevye-dni-rasskazy-ocherki-i-p-thumb.webp)