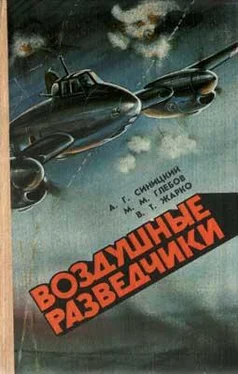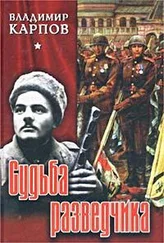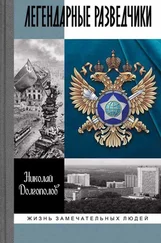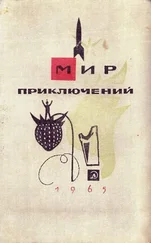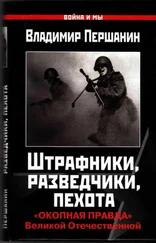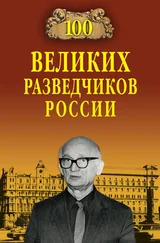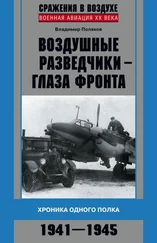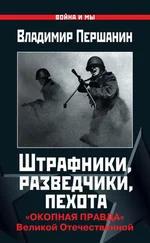А тогда, 3 сентября 1944 года, экипажам 11-го полка предстояло все-таки сфотографировать порт Либава. Летчики, штурманы и стрелки-радисты обсуждали эту задачу. Многие из них неоднократно летали туда, фотографировали и порт с внешним и внутренним рейдом, и железнодорожный узел. По разведчикам стреляли из орудий, их атаковали истребители, но экипажи возвращались. А тут – сразу три остались там. Кто полетит следующий?
– Экипаж капитана Глебова на КП! – объявил посыльный.
Михаил Максимович к тому времени стал уже заместителем командира эскадрильи, ему и штурману Петру Шаповалову присвоено очередное воинское звание капитан.
На командном пункте их ждал майор Г. А. Мартьянов:
– Догадываетесь, зачем вызвал?
– Да, товарищ майор, – ответил Глебов. – Либава?
– Она самая, – вздохнул командир полка, посмотрев на развернутую на столе карту с нанесенной наземной и воздушной обстановкой. – Главная задача вашего экипажа – выяснить воздушную обстановку на подходе к Либаве. Если будет возможность, сфотографируйте внутренний рейд порта и железнодорожный узел. Но главное – выяснить, почему наши экипажи не возвращаются оттуда. Маршрут полета и цели выбирайте сами. Высоту советую набрать максимальную. На крайний случай, если моторы выйдут из строя, хоть планировать будете дольше.
Глебов и Шаповалов решили произвести заход на Либаву со стороны моря. Тем более что склонившееся на запад солнце помешает фашистам своевременно обнаружить разведчика.
Небо было безоблачным, видимость – хорошая. После взлета Глебов установил наиболее оптимальный режим набора высоты. Береговую черту экипаж пересек в 50 километрах южнее Либавы и ушел в сторону моря километров на 20. Затем летчик развернул Пе-2 вправо на 90 градусов и повел его на север вдоль береговой черты, которой, впрочем, уже не было видно. Когда Шаповалов определил, что самолет вышел на траверз Либавы, он дал летчику команду взять курс на восток. Береговая черта и внешний рейд военно-морской базы Либавы начали просматриваться лишь с расстояния 10–12 километров. И тут Шаповалов прямо под собой обнаружил огромную самоходную баржу. Она двигалась в западном направлении. Ее прикрывали торпедные катера. С высоты почти 8000 метров они были видны только по белым бурунам. Стрелок-радист Василий Погорелов передал обо всем увиденном на КП.
В этот момент Глебова осенила идея – он установил разные обороты в работе моторов, и они стали звучать примерно так, как моторы вражеских Ю-88 и Хе-111. Это требовалось для того, чтобы ввести гитлеровских зенитчиков в заблуждение. Возможно, летчику и удалось перехитрить врага. Когда до цели оставалось не более 5 километров, на фоне воды, ниже полета Пе-2, Глебов обнаружил шестерку истребителей ФВ-190. Они барражировали на высоте 6000 метров над внешним рейдом порта. Летчик немедленно предупредил об этом штурмана и стрелка-радиста. Погорелов сообщил о замеченном на КП. Но по маневрам фашистов можно было определить, что они не видят разведчика или же принимают его за своего, а может быть, хотят усыпить бдительность экипажа Пе-2, чтобы дать возможность другой группе атаковать его внезапно. Экипаж усилил внимание. Глебов на глаз определил, что в порту Либава находились не менее 20 кораблей различного класса. Экипажу удалось сфотографировать порт, железнодорожный узел. И тут старшина Погорелов сообщил, что сзади с набором высоты идут «фоккеры». Зенитки не стреляли: то ли гитлеровцы все еще принимали Пе-2 за своего, то ли давали возможность истребителям атаковать разведчика. «Фоккеры» приближались медленно, так как шли с набором высоты, а «пешка» находилась в горизонтальном полете. Скорости почти уравнялись. И Глебов решил не применять маневр ухода от истребителей противника со снижением. Ведь в таком случае преимущество окажется на стороне фашистских истребителей. Они могут догнать разведчика, навязать бой.
Расчет Глебова оправдался. Еще до линии фронта «фоккеры» прекратили преследование, повернули обратно. Экипаж благополучно вернулся домой, полностью выполнив свою задачу.
Примерно через час после приземления экипажа Глебова на аэродроме Паневежис произвели посадку два самолета-торпедоносца, которые наносили удар по самоходной барже врага. Глебов и Шаповалов тут же подошли к экипажам, чтобы узнать, как завершились атаки. Летчики охотно рассказали, что к моменту их прилета в указанный район баржа отошла от берега километров на 15. На ней находились не менее 5000 вражеских солдат и офицеров с боевой техникой. Экипажи «бостонов» решили произвести торпедирование топ-мачтовым способом с бреющего полета. Но на барже было много зениток малого и среднего калибра. Они открыли мощный заградительный огонь. Это помешало сбросить торпеду прицельно, и она прошла впереди баржи.
Читать дальше