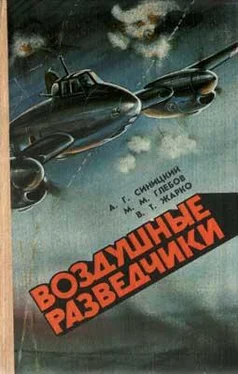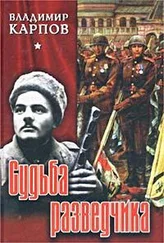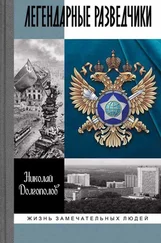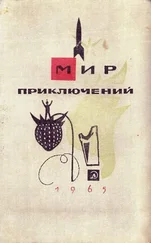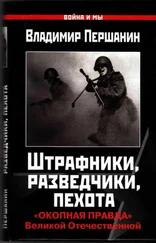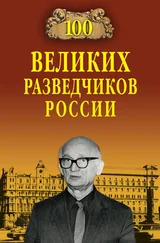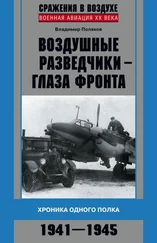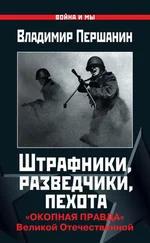На траурном митинге выступили майоры С. П. Висягин и Г. А. Мартьянов. Троекратным салютом из личного оружия однополчане почтили память боевых друзей. Их похоронили на опушке леса неподалеку от аэродрома. После войны останки Н. Артемюка и В. Тараныхина, а также погибших впоследствии Л. Рахайлова, В. Тверитина, Ю. Жукова перезахоронили в братской могиле в центре города Торопца Калининской области. На мраморной плите золотыми буквами высечены их имена, там всегда живые цветы.
Михаил Глебов, как и его товарищи, тяжело переживал гибель друзей. В то же время он понимал, что во время этой войны с фашистскими захватчиками потери неизбежны. И что до конца ее еще не однажды придется стоять в скорбном молчании над могилами боевых друзей.
Глебов мучительно думал: сумеет ли он летать?
Наступил день, когда капитан медицинской службы Васильева разрешила снять повязку. Глебов осмотрел в зеркальце свое новое лицо, особенно нос, ставший похожим на спелый помидор, и сказал:
– Не знаю, узнает ли мать, но лицо есть. Главное другое: буду ли летать?
– Будешь, соколик, будешь, – отозвалась Васильева. – Коль уж из такой передряги выбрался, то и летать будешь долго.
Какое-то время Глебов шамкал по-стариковски. Потом ему вставили золотые зубы, и командир полка сказал:
– Можешь домой съездить. Это будет целебнее всяких лазаретов и госпиталей.
– А летать? – насторожился Глебов.
– Будешь летать, – успокоил его замполит С. П. Висягин. – Медицина не возражает. Так что езжай со спокойной совестью.
Михаила потянуло в свою родную деревеньку, где жили отец, мать, сестры и младшие братья. О своем ранении он писал им из лазарета осторожно, дескать, поцарапало немножко. Приехал на станцию Вязники ночью, а к утру, еще затемно, добрался до деревни Тополевка, что на Владимировщине, постучал в дверь родного дома. Открыл отец, прошли в комнату, в которой горела керосиновая лампа, поздоровались, как незнакомые. Из чулана вышла мать, тоже поздоровалась и тут же ушла назад. Михаил убедился, что родители не узнали его, и очень разволновался. Сильно забилось сердце, даже в горле пересохло. Что же делать? Передать привет от сына Миши и уехать? Или открыться, закричать что есть мочи: «Это же я – ваш сын!»
Отец пригласил сесть. Разговорились – Михаил даже не помнит, о чем. Тут же вернулась мать – услышала родной голос, но боялась поверить, что этот летчик с незнакомым лицом и есть ее сын. Она подошла почти вплотную и стала пристально вглядываться в глаза Михаила. Тот не выдержал, на глаза навернулись слезы, и он дрожащим голосом проговорил:
– Мама, неужто не узнала?
– Мишенька, сынок! – обняла его мать. Поплакали все вместе. Потом успокоились, сели завтракать, разговорились.
– Не горюй, Миша, – сказал отец. – Главное – живой остался. Вот добьете фашиста, свадьбу сгуляем!
Пока Глебов лечился и был в отпуске, в полку боевая жизнь шла своим порядком: экипажи выполняли полеты на разведку войск противника, слушали сообщения Совинформбюро, надеясь услышать долгожданную весть о том, что врага погнали на всех фронтах.
1 августа отмечалась 1-я годовщина образования полка. День выдался солнечным, теплым. С самого утра среди авиаторов царило праздничное настроение. Летчики, штурманы и стрелки-радисты ехали из Ермаков на аэродром и пели песни «Землянка», «В далекий край товарищ улетает», «Мы друзья – перелетные птицы». Запевали Евгений Кривенцов, Владимир Свирчевский и стрелок-радист старшина Инанц. На торжество прибыли представители штабов воздушной армии и фронта. На аэродроме состоялось собрание. Подполковник Лаухин подвел в докладе итоги боевой работы полка за минувший год, отметил лучшие экипажи, поставил задачи на период подготовки к Смоленской наступательной операции. Отличившимся вручили боевые награды.
Затем на грузовых машинах опустили борта и оборудовали импровизированную сцену, на которой выступили артисты фронтового ансамбля песни и пляски, а также участники художественной самодеятельности полка. Были песни и танцы, в исполнении которых участвовали почти все авиаторы. Торжественно и весело прошел полковой праздник. Он словно вдохнул в сердца воинов заряд новой энергии, настроил их на новые боевые дела.
При подготовке Духовщинско-Демидовской операции вспомогательный пункт управления (ВПУ) фронта разместился невдалеке от линии фронта, в овраге. Инженерные войска оборудовали землянки, установили штабные палатки, тщательно укрыв их маскировочными сетями. Палатки командующего, члена Военного совета и начальника штаба фронта расположили на западной окраине оврага. Затем размещались офицеры оперативного и разведывательного отделов. Правда, из последнего на ВПУ выехали лишь начальник и 5 офицеров, остальные остались на основном КП.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу