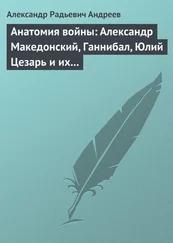В это время из-за изгороди, разгребая высокие стебли садовой ромашки, вышел боец, который спал на лестнице, приблизился к нам. Нагловато ухмыляясь, он выставил вперед ногу носком кверху — подметка сапога была оторвана, в ощеренную деревянными гвоздями дыру высовывался уголок грязной портянки. Белая, с желтой серединкой ромашка застряла в сапоге, когда боец шел по цветам.
— Видите обмундирование, командиры? — Боец поводил носком, как бы любуясь безобразием своего сапога. — Могу я ходить, а то, пожалуй, и воевать в такой обуви?
— Будешь воевать, — проговорил я, стискивая зубы, чтобы усмирить вдруг вспыхнувшую ярость. — Босиком будешь. Как твоя фамилия?
Боец недоуменно и часто замигал, чуть отступив:
— Бу-бурмистров, — произнес он, запинаясь. — То есть как это босиком?
Чертыханов, поспешно подойдя, грубовато дернул Бурмистрова за плечо.
— Ты куда лезешь? — Выражение лица у Прокофия было устрашающее, густой, с хрипотцой голос грозил бедой, — Товарищи командиры важные вопросы решают, как тебе, дураку, жизнь спасти, а ты с рваными сапогами суешься? Где ты их разбил? В лесу в футбол играл, пни считал? Теперь идти не знаешь как! На веревку взнуздай сапог и уходи! А то вот ожгу по лопаткам — тогда запляшешь! Идем, идем… Я научу тебя ходить по земле, как по нотам!
Возмущенный таким насилием, Бурмистров попытался сбросить руку Чертыханова со своего плеча.
— А ты что за шишка?
— Я не шишка, я солдат. Идем, говорю.
Бурмистров, видимо, считал зазорным для себя покориться и отступить; он начал вызывающе препираться с Чертыхановым. Сержант Гривастов, придвинувшись, мрачно бросил:
— Ну? Пшел! — Каменное лицо его с дергающимся шрамом на щеке угрожающе нависло над головой Бурмистрова. Боец, недовольно ворча, отошел, шлепая оторванной подошвой; цветок ромашки взлетал белокрылой бабочкой при каждом его шаге.
— Видали? — спросил лейтенант Стоюнин, указывая на Бурмистрова. — Вот вам моральный облик… — Случай с сапогом бойца сильно взволновал его.
Щукин спокойно объяснил:
— Общеизвестно: то, что создается многими годами, большими усилиями, может разрушиться в один день, даже в одно мгновение… Это относится и к дисциплине, в том числе и к воинской. Но я убежден, что таких бойцов немного, хотя они сейчас и в бедственном положении. Да и этот Бурмистров, мне кажется, не такой…
— У актеров есть одно очень хорошее правило, — сказал я. — Если надо завоевать симпатию и доверие зрителя, заставить его и страдать, и плакать, и смеяться, в общем полностью подчинить его себе, необходимо, чтобы темперамент актера, его страсть, его воля были выше и сильнее воли зрителя.
— Верно, — отметил Щукин. — Жаль только, что это не театр и не игра на сцене, а война…
— Знаешь что, политрук, — сказал я. — Напиши такой текст… вроде клятвы. Коротко, сжато и сильно. Мы дадим каждому прочитать и подписать. У знамени.
— Да, это следует сделать, — живо согласился Щукин. — Я сейчас же и напишу. Плохо, что у нас бумаги нет…
Лейтенант Стоюнин отстегнул сумку, вынул блокнот и подал политруку, тонко улыбаясь:
— Дарю…
3
Как и я предполагал, роты наши быстро пополнялись, — люди, двигаясь следом за наступающей немецкой армией, обходили деревни, занятые врагом, и забирались поглубже в леса. Они неизменно наталкивались или на избушку — наш штаб, — или на бойцов одной из рот, занявших круговую оборону. Иные отбивались и уходили — то были трусливые одиночки. Большинство оставалось у нас. Стоюнин распределял их по ротам, предварительно дав прочитать и подписать клятву.
Первым, два дня назад, подписал ее я. Мы выстроили роту бойцов на поляне, Чертыханов вынес знамя, надетое на срубленное и выструганное ножом древко. Я опустился возле знамени на одно колено и громко, отчетливо прочитал:
— «Я, воин Красной Армии, вступая в новое воинское подразделение, обязуюсь строго подчиняться воинской дисциплине, выполнять приказы вышестоящих командиров и политработников. Я полон решимости с боем прорваться сквозь вражеское кольцо окружения к нашим войскам, действующим на фронте. Я клянусь не щадить своей жизни в борьбе с ненавистным врагом. И если я отступлю или струшу в бою, то пусть меня, как предателя и труса, расстреляют мои же товарищи».
Я поцеловал знамя и встал. Мое место занял политрук Щукин. Потом лейтенант Стоюнин… Один за другим подходили бойцы к знамени и склоняли колени. Остался один Вася Ежик. Я твердо решил не взваливать на его худенькие и хрупкие плечики такую суровую и непосильную ношу. Но мальчик бодро выдвинулся вперед, щупленький, в подпоясанном ремнем пиджачке, из-за пазухи торчала рукоять пистолета.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу