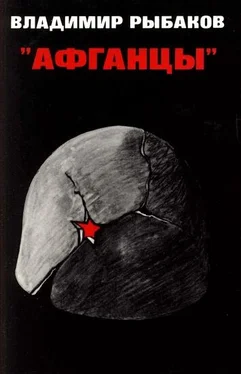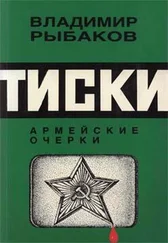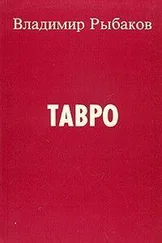Знание, что он умирает, оказалось на удивление простым и почему-то не внесло ужаса в его мысли. Так, значит я умираю. Грустно это, грустно, но ничего не поделаешь, такая у нас профессия. Надо только подготовиться.
— А сколько, как ты думаешь, мне осталось быть в здравом уме и, как говорят, твердом сознании?
Борисов себя слышал. Я говорю тихо, но голос мой не дрожит, нет, не дрожит.
Сторонков ответил хмуро:
— У тебя довольно сильное внутреннее кровоизлияние. Черт его знает, минут десять-пятнадцать. Что, хочешь, может, исповедаться? Отец Анатолий не настоящий, но все же полковой батюшка, а Богу, если он действительно есть, наплевать, наверное, настоящий он священник или нет, раз от души вера у него идет. Как?
— Нет, не хочу. Нет Бога.
— Гляди… А вдруг есть?
— Ну, знаешь… Ладно после пусть молитву прочтет. Ты мне лучше скажи, что другим говорить не хочешь. Мне теперь можно: за Россию воюем здесь, как ты всем говоришь, или за что-то другое? Мне подыхать через несколько минут, знать охота — за что?
Сержант Сторонков криво усмехнулся и сплюнул. Закурил, дал умирающему затянуться. Борисову дым показался горьким. Ему вообще не хотелось курить.
— Выпить хочешь? Все ведь тебе одно.
— Нет. Нет охоты. Даже бабы не хочется, а ведь меня уверяли, что смертельно раненные только о том и думают. Мне даже прошлое не вспоминается. Ну? Говори, а то время уходит.
Сторонков заговорил чуть тянущимся спокойным голосом:
— Нет, не за Россию ты помираешь, лейтенант, не за империю, не за выход к теплым морям, как говорят на Западе. Ты умираешь из-за трусости и глупости нашего руководства, за ничего больше. Мы здесь давим афганцев по той же причине, по которой раньше давили венгров, чехов и других. Эти суки в Москве уже давно выработали концепцию: страна, граничащая с СССР и вступившая на путь социализма, — с этого пути сойти не должна. Понял, лейтенант? Они боятся, что стоит в одной стране разделаться с коммунизмом — как начнется цепная реакция. А тупость тут в том, что мы с этой концепцией в один прекрасный день заработаем весь мир на голову — и будет нам хана, не только коммунистам, но и России. Вот за что ты умираешь. Ты сам понимаешь, что я не могу говорить ребятам правду, потому что такая правда — смерть, от которой спастись нельзя. Афганцы могут и промазать, трибунал — никогда. Да и как с такой правдой воевать, чтобы остаться в живых? Воевать за Россию здесь можно, хотя и противно, но как воевать здесь против России? Не выдержали бы ребята, они и так полоумными тут становятся…
«Хорошо, что боли все-таки нет», — подумал Борисов, а когда стал говорить, удивился слабости своего голоса:
— Ты, Сторонков, самый гнусный тип, которого я когда-либо встречал в жизни, а мне ее так мало осталось, что… А я ведь, не поверишь, уже считал тебя своим другом. Ловко ты меня обманул, врешь, все время врешь. Все, что ты говоришь, — ложь. Ты только о себе думаешь, о своей шкуре и о своем кармане. Ты пытаешься напоследок лишить меня офицерской чести. Я выполнял честно свой долг, это ты убийца и вор, потому что ни во что не веришь. Ничего у тебя не вышло, сержант. Уходи. Пусть ко мне Куроть подойдет.
Сторонков задумчиво потер пальцами переносицу, после ладонью сильно провел по своему маленькому лицу. Когда он отнял руку, Борисов увидел в его глазах печаль и усталость, ничего больше. Борисову стало обидно, он предпочел бы увидеть злобу, доказательство своей победы. Но обида мгновенно прошла. Действительно, какое это теперь имеет значение? Борисов отвернулся медленным движением головы от сержанта. Сторонков ушел.
— Нужно тебе что-нибудь, таищ лейтенант?
Борисов с удовольствием прочел на лице присевшего рядом с ним человека доброту и участие.
— Отец Анатолий, скажи лучше «господин лейтенант».
Отец Анатолий улыбнулся, как взрослые улыбаются детям, когда не понимают их:
— Да, да… господин лейтенант.
— У меня к тебе, отец Анатолий, просьба.
— Конечно. Все исполню, не сомневайся.
— Расскажи моим родителям всю правду. Ничего не приукрашивай. Лиде, официантке, скажешь: «Борисов просил передать, что ты была права: нельзя торопиться ни в любви, ни на войне». У меня в кармане найдешь адрес Светланы Войковой. Напишешь ей от моего имени, что она стерва… только не забудь уточнить, что сказал я это спокойно. Что еще? Да, часы, ваш подарок, передай родителям, скажи, что это все, что я заработал на этой войне… Хотя, наверное, наградят меня посмертно, Осокин позаботится. Вот и все. Ты меня слышишь?
Читать дальше