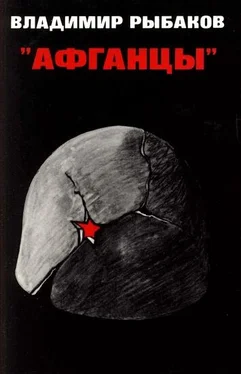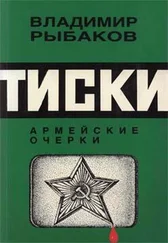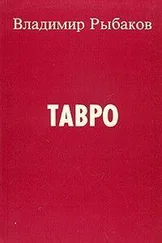Но Пименов вдруг открыл глаза и подмигнул ему:
— Товарищ старший лейтенант, рад, что навестили вы нас. Присаживайтесь. Живой я, живой. Ширма так, для удобства. Хотите выпить-закусить? И это у нас есть.
— Нет, спасибо, я и так только протрезвел слегка.
Черт, чего это я так рад его видеть? И говорю с ним, будто он офицер.
— Чего ты, Пименов, тут делаешь? Я думал, тебя давно в Кабул отправили?
Пименов вновь подмигнул ему:
— Объявили меня нетранспортабельным. А что, мне здесь лучше, чем в столице. Лучше в подвале с блатом, чем на первом этаже по разнарядке. Здесь все только больные или несчастнослучайники, мы с сержантом единственные раненые, только вот, во втором ряду, шесть наджибовцев подыхают, но они не в счет.
Может, винограду хотите? И это есть, виноград с палец, никогда такого не видел и не увижу.
— Нет, спасибо. За ширмой, значит, прячешься. Ладно, что у тебя выпить есть? Самогонка? Откуда? Впрочем, не мое дело. Ну, плесни. Ты раненый, а я друг, пришедший тебя навестить… Будь!
— Обязательно буду.
— Вы, значит — крепкая штука, градусов пятьдесят, не меньше — и здесь умудрились устроиться? Молодцы! А медсестра добрая у тебя здесь есть?
Пименов гордо приподнял голову:
— А как же… Тангры мне для нее серьги достал. Люба скоро придет. Она невеста Пашки Кондратьева, ему месяца четыре назад афганцы три пальца отсекли. Письмо от него получили. Он из-под Пензы, из Башмакова, слыхали? Мы ему дом на окраине купили, он теперь его мебелью украшает. Инвалидность ему дали, что ни есть чепуховую, а тут дом, кто-то телегу накатал. Ну, начали интересоваться… пришлось «афганскую» делегацию послать, дать властям понять, что нечего искать у Пашки вшей, что у него все в порядке… Люба скоро к нему поедет, они поженятся, ну, а пока со мной, не пропадать же жизни впустую. Вот мне, попала бы голубушка чуть ниже или чуть выше — и не было бы радостей больше никаких до второго пришествия. Повезло. Мне вообще везет, сами видите, лежу за ширмочкой, будто отхожу, а на деле — как король. Слыхали, вчера семерых спецназовцев из Пактии приговорили к вышке? Они совсем сдурели: перебили отступающий афганский взвод, так нет, чтобы остановиться, пятнадцать наших салаг, тоже отступающих, перестреляли и добили. Салаги, наверное, не поняли, что и как: увидели, соседи отступают, и сами начали отходить. А спецназ накурившийся был, а то и больше — у них и героин бывает лучшего качества, вот и не соображали уже, где наши, где не наши. Представляете, товарищ лейтенант? Ведь это уже полный непорядок — по своим стрелять. Салаги они или не салаги, какое это имеет значение? По афганцам — другое дело, по союзникам можно и пострелять, раз отступают. Не нам же все время за них подыхать. Затеял войну — так воюй, нечего на другие плечи все сваливать, правильно я говорю?
— Не знаю. Скажи, а Сторонков где, почему не вижу сержанта?
Пименов тонко хихикнул:
— Он в помещении склада устроился, скажете часовому, что вы к Сторонкову, он пропустит. А я пока посплю, солдат спит — служба идет. Люба придет, разбудит. Хорошо, когда на войне тебя баба будит. Склад за госпиталем, метров пятьдесят будет с гаком…
Склад напоминал большую фронтовую землянку. В первую секунду Борисов никого не увидел, но из-за груды ящиков раздался голос Сторонкова:
— Сюда иди, лейтенант. Спасибо, что наведал. Сюда.
На двух койках, покрытых брльшим матрацем, лежал с миловидной блондинкой старший сержант Сторонков. На табурете рядом — аккуратно сложенный джинсовый костюм, на тумбочке высилась большая ваза с цветами. Вот устроился, сволочь! Хотя чего мне его сволочить? Единицы умеют так устраиваться, а он правильно сказал, что мы не в тылу грабим народ, а — воюем. Почему это я сказал «мы»?
— Садись, лейтенант. Да фонарик свой потуши, а я фитилек лампы подкручу, как днем в этом милом каземате станет. Я сказал Пименову и салагам на посту, чтобы тебя пропустили. Как отдохнул?
— Хорошо. Сутки дрых.
— Это нервы. А после тебе захотелось выпить и с хорошей женщиной потеснее познакомиться, не правда ли? Классика! Кстати, познакомься…
Борисов махнул рукой, мол, покажу ему, что и я не лыком шит.
— Не стоит. Вас, девушка, зовут, наверное, Наташей, а фамилия ваша — Боровицкая?
Она приподнялась на койке, придерживая на груди простыню, белоснежно сверкающую крахмалом при сильном свете большой керосиновой лампы. Глаза девушки были ленивыми и почти не мигали. И эта анашой балуется. А после ей детей рожать… Чего это я, не хватает еще мораль тут разводить.
Читать дальше