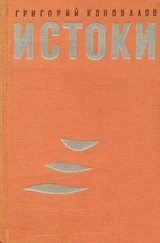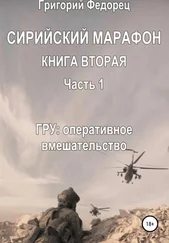– Совести нет у вас, братья славяне. Верю, вам тяжело, но в железном танке вместе с потом кровь испаряется. Дайте глоток, братцы. Подохну ведь…
Но мрачно-решительные лица пехотинцев не смягчались. Рэм бросил ведерко, подкошенно сел на землю, усыпанную овечьим пометом, обхватил руками колени. Кривая тень журавлиного стояка придавила ему шею. Из-за ворота комбинезона белела узкая полоска нежной кожи, по-детски наивно выпирал шейный позвонок.
Пожилой щербатый солдат поднял брезентовое ведерко, отлил в него воду из бадьи и поднес Рэму. Рэм храпел в беспамятном сне.
– Пей, товарищ танкист, – солдат тронул его за плечо. Рэм снуло припал было к ведру, но тут же оторвался, подошел к Михаилу – никогда первым не ел, не пил, не ложился спать. Напоив Михаила и напившись сам, он пошел вверх по суходолу к своим танкистам, напевая непутевую песенку, закидывая дым папиросы через плечо.
Михаил встал в очередь за водой для товарищей. По отлогому склону буерака спускался к колодцу высокий офицер в полинялой гимнастерке. Легкая, неторопливо-энергичная походка встревожила Михаила раньше, чем узнал он меньшого брата. Спрятался за стволом одинокой ветлы, глядел на Александра слезившимися от зноя глазами. Несмотря на свою заношенную гимнастерку, скованность в пояснице, когда он нагибался, заглядывая в колодец, Александр казался Михаилу все таким же юным и спокойно-уверенным, как и два года назад. Михаил хотел и боялся встречи с братом. Изменившись за войну сам, он не допускал и мысли, что Александр также мог измениться. Меньшак в его памяти оставался все таким же, каким представлял его себе Михаил раньше: чистым, полным здоровой простоты и, может быть, неизбежной в таких случаях упрощенности. Но теперь, когда весь мир ломался, плавился, горел, жажда увидеть душевную устойчивость в людях, особенно близких, становилась единственной потребностью Михаила.
Приподняв над глазами трепетавшую листьями ветку ветлы, он несмело разорвал горькую пленку немоты на губах:
– Саня…
Внезапно Александр стал выше, глаза заняли все лицо.
– Саня, это я.
Александр обнял брата, под рукой двигались широкие лопатки.
– Миша… какой ты черный.
– Темный я, Саша, темный!
Не ускользнуло от Михаила: скованно садится на край овражка Александр.
Михаил ковырял горькой былинкой в редких зубах, говорил глухо, глядя то на солдат в овраге, то на далекую, темную гряду леса.
– Самое ужасное в том, что я не в силах порвать что-то, что связало меня с Верой. С давних пор, Саня. Если бы она была моей женой… – Слово «женой» Михаил произнес с такой неловкостью и натугой, что Александр как-то смутился. – Если бы была, все равно я бы чувствовал себя несчастным мужем ее.
Александр потер лоб.
– А ты все о ней… Ну что ж, напиши ей, Миша.
– Да зачем же надоедать? Ведь ты же знаешь, что я… в самом себе не разобрался и в жизни – тоже…
Александр понял, что брат остался все таким же: далек мыслями от повседневности, и война воспринимается им как-то очень уж усложненно.
Михаил жаловался: немцы зародили в нем вторую душу, жестокую. Часто видит во сне ее, вторую душу: глаза прищурены, скошены, лоб злой. Хрясь! Хрясь! – бьет кого-то эта душа, безжалостная, как топор.
Затенив ладонью глаза, Александр вглядывался в переливающуюся, зеленоватую красноту над выгоревшей горбиной за балкой. Машины, повозки, орудия растекались по впадинам, западные склоны которых уже смягченно хмурились тенью.
Хотя Александр, как всегда, и видел за словами Михаила его мятущуюся душу, жалеющую людей, ему было неловко слышать эти слова от своего человека.
– Ну вот мы и встретились, Миша… – пытался Александр увести брата от его боли, но тот, стерев слезы, глядел перед собой косящими, будто потухшими глазами, говорил, никого не видя, никому не жалуясь:
– Солдат – самая большая тайна войны, душа его – тайна. О ней никто ничего не знает… Известна лишь степень его ожесточения, готовности убивать и умирать…
Тяжелые раскаты приглушенной знойной далью артиллерийской канонады давили землю.
– Саша, может быть, не встретимся, так вот о солдате долго думал я. Живой солдат – тайна, убили – тайна. Его даже смерть не рассекречивает. Война со многих событий сорвет тайну, после войны архисекретные договоры предадут гласности и только о солдате не выболтают секретов. Уж слишком накрутили о нем много красивости, особенно о последних минутах его жизни. Беззастенчивее всего брешут о погибших: ах, как они великолепно помирали!
Читать дальше